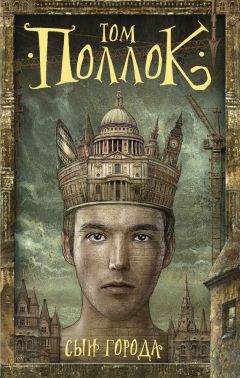В. Коваленко - Внук кавалергарда
Когда создавшаяся неловкая тишина дошла до предела, Брыль не выдержал и выпил один, но с обязательным тостом:
— Душа, примешь? — спросил он у своей души и тут же сам ответил: — Не приму. Тогда подвинься, не то обо лью.
Она даже не улыбнулась его шутке-тосту. А покручивая в пальцах треклятую печать для Моргамовой, сказала торопливо:
— Ты подожди меня, я только схожу к соседке, — и ушла, унося печать в кармане халата.
Витька не обратил на это особого внимания, а по ее уходу раскрепощенно плеснул себе еще в стакан.
— Для храбрости! — чокнулся он с ее стаканом и вы пил залпом.
В голове начали вырастать в пошлый ком скабрезные мысли, Брыль, как бы отгоняя их, затряс патлатой головой. И тут в комнату ворвались три милиционера. Витька даже разъяснить ничего не успел, как лихие опричники, не говоря ни слова, жестко скрутили ему ласты и поволокли на улицу, где их дожидался уазик.
Утром к Брылю в камеру пришел дознаватель и начал бодаться вопросами: «Откуда вам известно о продукции пятого цеха? Вы попадали в этот цех и кто вас проводил туда? И кто вас научил подделывать документы?»
В общем, вопросов было столько, что хватало на тележку с прицепом. Брыль отказывался, как мог, но мент прицепился репьем и все мытарил душу. Брыль ни черта понять не мог, кто его заложил. Но через пять минут все неприятно выяснилось.
Мент пригласил свидетеля, и вошла та красивая девушка из общаги, в форме прапорщика вневедомственной охраны. Охраны завода. Вот тогда все встало на свои места. Витька поник головой и согласился со всеми навешанными на него обвинениями и расстроенно подписал их, ненавидя белокурую красавицу и себя за слюнтяйство, в первую очередь.
Суд был скорый, на бегу, на лету, и впаяли Брылю два года с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Витька скинул брезентовые рукавицы и присел на штабель досок перекурить. Рядом присел столяр Митюхин и за компанию засмолил сигарету.
— Вот ты про красивую девку рассказывал, а она по нутру поганая баба, я тебе скажу, — толкнул он весело Брыля локтем. — Ты ее напои, а она тебя еще и заложит. Вот та, что к тебе второй год на свиданку приезжает и хавчик домашний привозит, вот это баба, всем бабам фору даст, добротой своей и сердечностью. А какая баба станет за сто верст жрачку везти и новости балаболить?
— Нет, Витек, ты эту бабу не теряй, — похлопал он Брыля по плечу. — А теперь пошли работать, шифоньер куму делать, не то съест живьем и не подавится.
И уже стоя возле включенного станка, прокричал, приложив ладонь ко рту:
— А девка ничего, видная. Ты про ее, сынок, помни за всегда. Она хороший человек.
После смены Витька Брыль сидел в бараке перед тумбочкой и положив на нее листок бумаги, вспоминал с теплотой в сердце соседку по общаге Лиду. Вспоминал, как они виделись перед общагой Моргамовой и сказанные ею мягкие слова: «Ты хоть бы цветов купил».
Брыль чему-то счастливо улыбнулся и аккуратно вывел первые строчки письма: «Хорошо, что ты есть!» И это была его правда, он подпер голову кулаком и задумался, глядя в вечернее окно на зубчатые верхушки соснового леса.
Бессердечный баран
Мы с Сергеем топили баню, сидели на порожке предбанника и, разговаривая о пустяках, курили, когда со двора Сергеева дома послышалась скандальная ругань.
— Куда ты барана попер, обормот? — кричал дядя Федя и матерился.
— Это мой баран, ты сам мне его отдал, а, значит, я с ним, что хочу, то и делаю, — пьяно огрызался старший сын дяди Феди и брат Сергея, Лешка.
— Я тебе для чего отдал, чтобы ты семью кормил, а ты куда его прешь? — укорял дядя Федя пьяного сына. — Ох и беспутный ты. Охламон и есть охламон.
— Пусть я охламон, но это мой баран, — визгливо доказывал Лешка и тоже матерился.
Я вопросительно посмотрел на Сергея, вдавливая ногой окурок в снег. Сергей посмотрел себе под ноги, как искал чего-то, и ответил, скривив губы:
— Да отец отдал Лешке барана, а он, видно, пьяным за ним пришел, вот и ругаются, — и он наплевательски от махнулся рукой. — Пусть делают, что хотят.
Мы, не сговариваясь, вошли в баню и копошились там от силы минут пятнадцать-двадцать.
Когда вышли обратно в садик, увидели такую картину: Лешка и его зять Генка, пьяные вусмерть, мешая друг другу лишним усердием, подвешивали уже зарезанного барана на турник, вкопанный недалеко от бани.
Лешка, поправляя окровавленной рукой сползающую на глаза лохматую шапку, кричал визгливо на Генку:
— Да куда ты его башкой вверх, его башкой вниз надо.
Его зять, высокий, ссутулившийся парень, пьяно спотыкаясь о собственные ноги, бурчал оправдывающе:
— Дык сам делай, а то все я да я. — И, споткнувшись, упал под барана.
Лешка, увидев нас, пьяно ощерился и, растопырив руки, пошел к нам, весело говоря поднимающемуся зятю:
— Смотри, кто к нам приехал, художник и дохтор. Вот это праздник. За это стоит выпить. А отец «зачем барана режете?» Это мой баран, че хочу, то и делаю. Я, может, братьев угостить хочу? — подходя к нам и протягивая окровавленную руку, возмущался он.
Сережка брезгливо отвел его протянутую для пожатия руку и веско сказал:
— Я врач, но не мясник.
— Фу-ты ну-ты, какие мы недотроги, — ехидно кривя небритые щеки, возмутился Лешка.
— Ты тоже, двоюродный братец, мне руки не подашь? — протягивая теперь мне руку и хмуря свои лохматые брови, спросил он.
Я пожал его руку.
— Вот так-то будет лучше, — снова засияв как солнышко, довольный, загорланил он.
Генка в это время занялся обдиранием шкуры с барана. Лешка пошел ему на помощь. Вдвоем они возились с полчаса, переругиваясь между собой. Доказывая матюгами неумелость друг друга в сдирании шкуры.
В конце концов, шкура была снята, и Лешка, как прополаскивая, потащил ее по чистому снегу, оставляя кровавый след.
Пока он таскал ее по снегу, гундя придуманную им же песню — «шкурка, шкурочка, на поллитра обменяю я тебя, шкурка, шкурочка моя…», Генка принялся вспарывать живот барана. Вывалившиеся кишки из него он, спотыкаясь, отволок к забору сада. И теперь стоял возле ободранной туши с ножом в руке и весь в дерьме. Подошедшему Лешке заявил, спотыкаясь в словах, не зная к чему:
— Чем глубже в лес, тем толще партизаны, — и похлопав значимо ладонью по освежеванной тушке, икнул.
Скрипнула калитка и, опираясь на палку, в сад вошел дядя Федя. Сложив руки на своем импровизированном костыле, он так и остался стоять у калитки, укоризненно наблюдая за двумя баламутами.
— Генка, — не выдержав, обратился он к зятю, — дождешься, что моя дочь вытурит тебя из дома, и правильно сделает.
— За что? — вытаращил глаза Генка.
— За глотку твою луженую.
— При чем здесь моя глотка, я работаю шофером и еще окромя, и все деньги в хозяйство несу, а что сейчас выпили с Лехой, так он позвал барана резать, — отбивался Генка.
— Шел бы ты, батя, подобру-поздорову телевизор смотреть, — влез заступником за друга Лешка.
— Я-то пойду, — обиженно согласился дядя Федя. — А как ты шофером работаешь, мы уже знаем. Сто раз твои права спасали в ГАИ, — не унимался он. — Или уже забыл. Не благодарна людская память. Коротка, ох, коротка.
До выхода на пенсию дядя Федя работал районным судьей и пользовался у начальства большим авторитетом, и сейчас, намекая зятю о спасении прав в ГАИ, он, конечно, имел в виду свое участие в процедуре по спасению.
Генка удивленно заглядывал барану вовнутрь, переводя ошарашенный взгляд на Лешку.
— А где сердце? — спросил он у Лешки.
Лешка тоже заглянул и, озадаченный, уставился на Генку. Так они с минуту стояли и смотрели друг на друга.
— Бессердечный баран, — выдохнул Лешка и накинулся на зятя: — Ты его, обалдуй, вместе с кишками выкинул, и они дружно направились проверять кишки.
— Наконец-то признались, кто они на самом деле, — хохотнул дядя Федя, и уже открывая калитку во двор, крикнул Сергею: — А ты когда приедешь за своим бараном, то приезжай трезвый, а то и барана не найдешь. Вон ловкачи сердце потеряли или головы свои. — И пошел, сутулясь, домой.
Мы с Сергеем закурили и стали смотреть, как два друга патриотично разгребают кишки. Откровенно говоря, я и сам не понял, куда подевалось сердце. В анатомии баранов я был слаб.
Друзья вернулись к барану, все испачканные дерьмом.
— Ну, куда сердце подевалось? — не унимался Лешка. Он раздвинул живот барана и залез в него вместе с шапкой. Потом догадливо снял шапку и нырнул в брюхо барана снова.
— Ну, где же сердце? — недоумевал он, вытащив голову из брюха и вопрошающе воззрившись на Сережку: — Скажи, дохтор, где у барана сердце, магар поставлю.
— Под левой коленкой правой ноги, — усмехнулся Сергей, вставая и подходя к двум баранам.
Он взял воткнутый в снег нож и полоснул по грудной диафрагме барана.