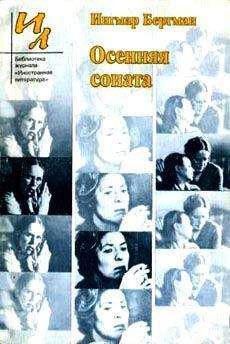Шарль Левински - Геррон
Как Штернберг использовал тщеславие Яннингса, чтобы заставить его делать то, что было ему нужно.
— Гениальный актер, — сказал он, — может себе позволить разок согрешить и против немецкого языка.
Как Яннингс это заглотил, словно щука наживку, и уже искал лишь отговорку, почему не он виноват в неверных звуках, а кто-то другой. Он выбрал для этой цели реквизитора, а именно Отто Буршатца, и сделал ему выговор, почему тот заранее не показал ему неприличные открытки, „ведь если я не знаю, как они выглядят, я не могу включиться в ситуацию“. Но с Отто лучше не затевать такие игры.
— К сожалению, оригиналов у меня еще нет, — сказал он благодушно. — Фройляйн Дитрих хочет еще немного похудеть перед тем, как сняться голой.
После чего Штернберг только сглотнул и объявил обеденный перерыв.
Вот о чем я хочу вспомнить. Мне не нужен слушатель, кому я мог бы рассказать эти истории. Истинный коллекционер достает свои бесценные экспонаты из сейфа только для себя самого.
Хочу вспомнить, как однажды мы смотрели отснятый материал. Без Марлен. Она была еще недостаточно знаменита, чтобы приглашать ее на такие просмотры. Она присутствовала лишь на экране, в сцене, которую мы отсняли только накануне. Она была хороша. Более чем хороша. То, что в жизни выглядело у нее таким искусственным, вдруг оказалось таким натуральным, когда она стоит перед камерой. В просмотровой всем стало ясно: это будет звезда. Это будет главная роль в фильме.
Яннингс, конечно, тоже это заметил. Настоящий театральный хищник чует, когда возникает угроза его территории. Свет уже давно зажегся, а он все сидел и таращился на экран, где Марлен еще пела. И вдруг мы услышали, как он сказал вслух:
— Я ее удавлю.
Вот о чем я хочу вспомнить.
Он потом так и сделал. В сцене, где он застает ее с Альберсом и чуть не сходит с ума от ревности. Хотели, чтобы он схватил ее за горло и немного потряс. Но он ее уже не выпускал и сдавливал все сильнее. Пока его в конце концов не оторвали от нее силой. Весь план съемок пришлось менять, потому что синяки от его пальцев на ее шее не так просто было загримировать.
Как я разбил яйцо о его голову, а он был недоволен сценой. Пришлось повторить, еще раз и еще, и всякий раз ему приходилось сперва отмываться и отчищать костюм. Даже в такой жалкой ситуации он хотел быть лучшим в мире.
Как Отто Буршатц сказал:
— Ни в чем себе не отказывайте. У меня там целый курятник в запасе.
Премьера в „Глория-Паласе“. Аплодировали нам всем, но Марлен аплодировали больше, чем Яннингсу. Он готов был придушить ее еще раз. На премьерном банкете у Борхардта он добровольно отказался от почетного места, лишь бы не сидеть рядом с ней. А она взяла и не пришла. Вообще не появилась. Прямо из кино поехала на вокзал и отбыла в Америку, где ее уже ждал Штернберг.
Вот о чем я хочу вспомнить.
Это было 1 апреля 1930 года. Ровно за три года до того, как распался мой мир.
1 апреля. Вот как шутит судьба с человеком.
Шутники были повсюду. В то время как для меня центром мира по-прежнему оставался съемочный павильон, они уже маршировали по улицам. Рассылали свои ударные группы. Издавали законы. А я? Помню только роли, премьерные торжества, радость из-за хорошей прессы.
Какой же я идиот.
Они все подготовили к своему фильму. Зарезервировали для себя роли героев, а нам оставили только негодяев. Написали сценарий. „Mein Kampf“. Идиотское название. Будто в память о Максе Шмелинге. Но с правильной рекламой можно впарить людям любое дерьмо.
Мы не читали сценарий. Мы считали более важным другое. Первая режиссура в кино! Роль у Макса Рейнхардта! Смотрите все сюда, как красиво я декорировал свою квартиру! А дом при этом уже горел.
Когда я был маленьким, у нас во дворе раз в год останавливался кукольный театр. Может, это было и чаще, но другая периодичность в моих воспоминаниях невозможна. Рождество не каждый месяц. Тогда я твердо решил стать кукловодом. Самая лучшая профессия, какую я мог себе представить. Да ведь я потом и стал им, только, к сожалению, в театре не того сорта. Сцену настоящего Петрушки можно просто сложить и закинуть на плечо, всю труппу погрузить в мешок и носить с собой. Если в какой-то стране тебя больше не хотят, устанавливаешь свой театрик в следующей. Или в послеследующей. А если толком не знаешь тамошнего языка и говоришь со смешным акцентом, зрители довольны вдвойне.
Больше всего мне нравилось представление, в котором злой крокодил гоняется за бабушкой. Тогда мы все кричали: „Берегись! Крокодил! Крокодил!“ Но бабушка, эта деревянная башка, была глухая, а если и оглядывалась, то не в ту сторону. Это было для меня самым комичным на свете. Потому что было так чудесно ощущать свое превосходство. Уж я-то — и в этом я был твердо уверен — заметил бы крокодила вовремя. И быстренько достал бы Петрушку, чтобы тот дал своей дубиной крокодилу по башке.
Я не заметил его. Крокодил меня сожрал.
При том что судьба посылала мне персональное предупреждение. Заставила сыграть роль, в которой содержалось все, что я испытываю сейчас. Но я неверно истолковал предсказание. Уж таковы эти предсказания. Что на самом деле скрывается в небесных маскарадах, замечаешь лишь тогда, когда хлопушка уже взорвалась.
Пьеса называлась „ФЭА“. „Фотографически-акустическое экспериментальное акционерное общество“. Я играл обер-режиссера Зюсмильха. Декорациями служила киностудия, где я командовал и страшно при этом важничал. Только этому Зюсмильху на самом деле нечего было сказать. Он был лишь жалкий получатель приказов, а собственно шеф был совсем другой.
— Я тут пластаюсь, — говорил я в пьесе, — а он сидит со своими гигантскими ножницами и режет.
В Терезине гигантские ножницы принадлежат господину оберштурмфюреру Раму. Он хочет подправить действительность, а я должен поставить ему для этого материал. Может быть, тогда в Берлине он смотрел тот спектакль. Уж господа убийцы всегда заботились о культуре.
В одной из сцен владелец кинофирмы говорит мне:
— Вы должны настолько приблизиться к жизни, чтобы можно было разглядеть через ее зрачки последнее, даже если это смерть.
Так считает и Рам. Только он хочет иметь обратное. Придвинуть камеру так близко, чтобы смерть оказалась за кадром.
Иногда я думаю: такие совпадения не могли быть случайностью. Может быть, действительно есть небесный драматург, зовут его Алеман, и он не знает большего удовольствия, чем подпилить доски в сортире. И смотреть, как кто-нибудь плюхнется в дерьмо. Весь мир — одна гигантская потеха.
Но это все же легче перенести, чем мысль, что виноват ты сам. Что пенять не на кого. Что ты мог бы все предвидеть. Что должен был заметить. Я был для этого слишком глуп. Обгрызал пряничный домик со всех сторон, а ведьму не видел.
Мне дали снять первый фильм как режиссеру, потом второй и третий. Кроме этого, я ничего не видел. Никакой действительности, только кадры, только планы съемки. Я поглощал один пряник за другим. При этом все время у меня за спиной стояла ведьма. Я мог бы услышать, как она потихоньку хихикает. Но у меня не было для этого ушей.
— Первый апрель, никому не верь, — говорила ведьма.
Никто этого не заметил. Даже те умные головы, которые потом, умудренно кивая, утверждали, что с самого начала видели приближение этого всего.
Мы все были слепы.
Папа готов был и сам примкнуть к нацистам. Как бы не так!
— То, как они ополчились против жидков, это, конечно, слишком, — считал он. — Но в остальном? Нечего и возразить. Если бы еще Хайтцендорфф так не задавался.
— Вот они все время говорят о порядке, — сказала мама и вытянула трубочкой свой пансионский ротик, — но что это за порядок, если консьерж больше не носит уголь на этаж? В такую холодную погоду.
— Все уладится, — сказал папа. — Это от избытка первого воодушевления.
Я хотел быть остроумным и сказал:
— Единственное, чем мог воодушевиться Хайтцендорфф, это порядок в доме.
Ха-ха-ха.
Они вымели все подчистую.
— Наконец-то что-то великое, — сказал Яннингс. — В этой стране слишком долго не было ничего поистине великого.
По тому, какую позу он при этом принял, можно было предположить, что он имеет в виду себя самого.
— Это хорошо для авиации. — Единственное, что интересовало Рюмана. — Предвыборная кампания с самолетами, — сказал он, — это нечто. Тут бы я и сам стал рейхсканцлером.
Но он бы не имел шансов, при всей своей популярности. Один критик назвал его „жалким маленьким кроликом“, а время было не для кроликов. Время было для волков.
Которых мы принимали за комнатных собачек. Которых уж кто-нибудь прогонит, если они надоедят своим тявканьем. Мы над ними посмеивались.
— Я чемпион мира в тяжелом весе, — сказал Шмелинг. — Мне все равно, кто там подо мной будет править Германией.