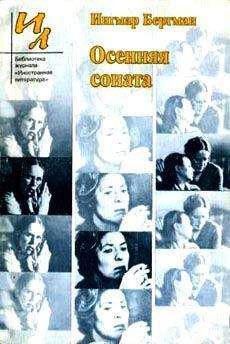Шарль Левински - Геррон
Вообще она никогда не была довольна своим телом. В съемочном павильоне она всегда хотела, чтобы ее снимали анфас. Чтобы софит светил в лицо. В профиль она находила свой нос великоватым. При том что она, как поговаривали, уже укорачивала его у хирургов. Штернберг потом нашел для нее решение. У него действительно было чему поучиться. Один маленький штрих серебряной краской на спинке носа и софит сверху. С того дня она ела у него с руки.
То, что она вообще получила роль в „Голубом ангеле“, было чистой случайностью. Штернберг как-то вечером пошел в Берлинский театр. Хотел посмотреть на Валетти и Альберса, которых уже ангажировал для „Голубого ангела“.[7] Но видел только Марлен. Хотя у нее в „Двух галстуках“ была всего одна фраза. На следующий день он пришел в павильон и сказал:
— Я нашел нашу Лолу.
На УФА, это я знаю от Отто, были не в восторге от его предложения. Для Яннингса и Поммера она была просто толстовата.
— Попа-то ничего, но разве нам не нужно еще и лицо? — якобы сказал кто-то.
Но Штернберг пригрозил немедленным отъездом и добился того, чтобы ее пригласили на пробы.
Я много потерял, что не присутствовал при этом. Поскольку Марлен считала, что речь идет о какой-то неинтересной второстепенной роли, она притащилась с большой неохотой.
— В платье, — рассказывал Отто, — которое у юных туристов сошло бы за двуспальную палатку.
Должно быть, лишние фунты каким-то образом удалось замаскировать. Она не захотела даже снять шляпу. И желания что-нибудь спеть у нее тоже, казалось, не возникло. Но это и было как раз то, что привело Штернберга в восторг. Эта мина поцелуйте меня в задницу. Наконец-то хоть что-то другое, чем все эти улыбчивые милашки, которых ему приходилось просматривать.
Он потом работал с ней особенно прилежно. Даже ночью, в номере отеля.
Ольга не могла понять, почему я не могу отвязаться от этих профессиональных сплетен.
— Ведь все это уже не важно, — говорит она.
Но именно потому, что это не важно, именно потому, что это больше не имеет значения, именно потому, что больше никого не интересует, играл ли я в „Голубом ангеле“ или нет, именно потому, что больше никто не хочет слышать старые истории, кто с кем и кто против кого за каким столом должен сидеть в столовой УФА, а за какой стол ни в коем случае не должен садиться, именно потому, что все это давно прошло, стало тотально недействительным, именно потому, что мне никто не даст за это куска хлеба, именно потому мне это и необходимо. Я могу только воспоминаниями доказать, кто я такой. Кем я был когда-то.
В Вестерборке были люди, которые в единственном чемодане, который им разрешалось взять с собой, привезли одни фотоальбомы, школьные аттестаты и дипломы.
— Вот я сижу на пляже, — говорили они. — Там был продавец лимонада. Если захочешь пить, достаточно было щелкнуть пальцами. А это мой первый день в школе, — говорили они. — Штаны были новые, но я порвал их в тот же день. А это мои родители, — говорили они, — и мои дедушка с бабушкой.
При этом дедушка с бабушкой уже давно умерли, да и родители, пожалуй, тоже. Да и сами они уже стояли в списке на депортацию, и о них потом больше никто никогда не слышал. У меня нет фотографий, а мамино собрание театральных программок и газетных статей уже давно ушло на растопку печи у Эфэфа. У меня есть воспоминания. Единственное, что у меня никто не может отнять.
Ольга в этом не нуждается. Она живет сегодняшним днем. Даже теперь, когда где угодно было бы лучше, только не здесь и не сейчас. Но я… Когда мы прибыли в Терезин, здесь каждый знал профессора Вальде и профессора Штреккера. Их больше нет, вскоре после акции лакировки действительности обоих отправили на транспорт. Наверное, они и в вагоне для скота продолжали спорить. Они были специалисты в одной и той же области — в истории Средних веков, один преподавал в Кенигсберге, а другой в Штральзунде. Небось всю свою жизнь язвили друг друга в сносках и травили на конференциях. А потом сидели тут, каждый день на одной и той же ступеньке лестницы перед Гамбургской казармой, там, куда иногда заглядывает солнце, если светит, и разили друг друга Меровингами и Каролингами. До тех пор, пока они могли спорить, они все еще были профессорами. Пока они могли с коварной вежливостью говорить друг другу: „Тут вы, верно, что-то не додумали, уважаемый коллега“, — они были все еще живы. Они все еще были самими собой.
У меня нет ни Каролингов, ни Меровингов. У меня есть Яннингс, и Альберс, и Рюман. Шпира и Марлен. Я могу изобразить скороговорку Лорре, когда он себе что-нибудь вколол, и как он потом внезапно становится усталым и начинает растягивать согласные. Я знаю, где Сисковиц прячет свои сигареты, потому что без никотина не может работать, а в швейной мастерской из-за пожароопасности курить нельзя. Я знаю все, и до тех пор, пока я это помню, я помню также, кто я.
Дедушка однажды рассказал мне притчу, одну из тех легенд, которые он так любил выдумывать. Я услышал что-то о рае и спросил у него, каково там. Вопрос, который я не мог задать папе. Он имел отношение к Господу Богу, а папа этого не любил.
— В раю чудесно, — сказал дедушка. — Там всегда играет музыка, стоят удобные кресла и столы, уставленные пирогами и лимонадом. Для взрослых там есть сигары, они уже раскурены, когда берешь их из футляра, и горят до тех пор, пока тебе хочется курить. Можно играть в игры, в „Поймай шляпу“ или „Тише едешь — дальше будешь“, а поскольку это рай, то выигрывают все. Кто при жизни был стар, тот в раю снова молод, а кто был болен, снова здоров. Лишь иногда кто-то становится бледным, таким бледным, что сквозь него можно видеть, тогда он встает и выходит и больше никогда не возвращается.
— А что это за люди, которые выходят? — спросил я.
— Те, кого больше никто не вспоминает.
Ах, дедушка.
Я знал стольких людей, у которых было наоборот. Они исчезали не потому, что их забыли, а потому, что они забывали сами себя. Потому что оставили где-то свои воспоминания. Как багаж, который больше не нужен. Они стали бледными, это верно, бледными и прозрачными, и ушли не попрощавшись. Отсутствовали, хотя все еще оставались здесь. Еще стояли в очереди за едой, еще лежали на своих соломенных тюфяках, а если с ними заговорить, они отвечали.
Но уже отсутствовали.
Я не хочу так прийти к своему концу. Я не в раю, видит бог, здесь нет мягких подушек и нет столов, уставленных пирогами, но я удобно устраиваюсь в своем прошлом и досыта вспоминаю пережитое. Я курю сигару, которая раскуривается сама по себе, делаю затяжку, и еще одну, и еще, и не выпускаю ее из пальцев, что бы мне ни пришлось ради этого сделать.
Что бы ни пришлось ради этого сделать.
Пока у меня остаются воспоминания, я могу составить из них себя. Могу выяснить, кто я такой. Я не хочу ничего упустить. Ни единой детали.
Самая первая сцена, в которой Яннингс снялся для „Голубого ангела“. Как учитель, он приглашает ученика к себе домой, чтобы сделать ему нагоняй из-за картинок с ню.
Хочу вспомнить, как Яннингс расшумелся. Как будто он в цирке Шумана играл Эдипа. Как минимум Эдипа. Текст он тоже говорил своими словами. Со времен немого кино он привык, что дело не в словах.
Я хочу закрыть глаза и снова услышать его монолог.
Как потом вдруг из громкоговорителя раздается голос Штернберга — это ведь был звуковой фильм, и режиссер в наушниках сидел в своей звукоизолированной кабине. Он сказал:
— Мы здесь не в театре, Эмиль. Тебе не надо гнаться за каждым звуком, как черт за бедной душой.
Вот об этом я хочу вспомнить. Как Яннингс обиделся. Повел себя как строптивый ребенок. Дескать, он лучший чтец всех берлинских сцен, и если Штернбергу угодно, он покажет ему соответствующую прессу, и что он сейчас снимается в своем первом немецком звуковом фильме, и зрители тоже должны это запомнить. Все это время он зажимал между коленями новичка, который играл гимназиста, и тот из благоговения не смел высвободиться из этих тисков.
— Я не стану унижать немецкий язык! — кричал Яннингс.
Так и сказал: „унижать“. Выделяя каждый слог.
Вот об этом я хочу вспомнить. Поскольку я здесь, в Терезине, единственный, кто это еще помнит. Потому что должен быть кто-то, кто это помнит.
Как тогда Штернберг вышел из своей кабинки. Вообще не впечатлившись криками Эмиля.
— Если ты на этом настаиваешь, — сказал он, — пожалуйста, играй роль так. Но всех остальных я заставлю говорить по-человечески. Люди будут сидеть в кинозале и качать головой от твоего старомодного пафоса.
Он сказал „старомодный“ и „пафос“ — и это обращаясь к Яннингсу. А юный коллега так и был зажат все это время между двумя дерущимися петухами.
Как Штернберг использовал тщеславие Яннингса, чтобы заставить его делать то, что было ему нужно.