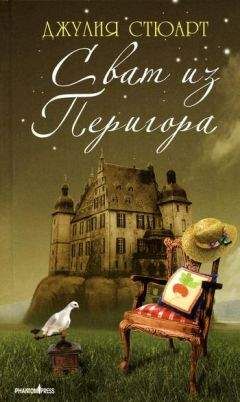Пол Боулз - Под покровом небес
— Yah latif! Yah latif![93] — проворчал он, заковыляв прочь. Белькассим фыркнул, подошел и бросился возле нее на ковер. Она попыталась принять осуждающий вид, но заранее знала, что это безнадежно, что будь у них даже общий язык, он бы все равно не понял ее. Она обхватила его голову руками.
— Почему ты позволил ему? — не удержалась она.
— Habibi[94], — прошептал он, нежно гладя ее по щеке. Вновь она была счастлива мимолетным счастьем, скользя по поверхности времени и осознав, что совершает движения любви лишь после того, как отдалась им вся целиком. С первого мига творения каждый жест ждал своего часа и вот сейчас наконец рождался на свет. Позднее, когда круглая луна, поднявшись, уменьшилась в небе, она услышала у костра пение флейт. Немного погодя старший появился снова и сварливо позвал Белькассима, который ответил ему столь же недовольным тоном.
— Baraka![95] — сказал тот, снова удаляясь прочь. Через минуту-другую Белькассим с сожалением вздохнул и сел. Она не сделала попытки его удержать. Немного погодя она тоже встала и пошла к костру, который погас и теперь на его углях поджаривали насаженные на вертела куски мяса. Они тихо поели без разговоров, и вскоре после этого тюки были завязаны и водружены на верблюдов. Была уже почти полночь, когда они выступили, возвратившись тем же путем к высоким дюнам, откуда продолжили движение в том же направлении, в котором шли в предыдущий день. В этот раз на ней был бурнус, который Белькассим кинул ей перед отправкой. Ночь была холодной и сказочно ясной.
Они шли не переставая до середины утра, остановившись у места в дюнах без каких-либо признаков растительности. Вновь они проспали весь день, и вновь с наступлением темноты поодаль от стоянки был соблюден двойной ритуал любви.
И так дни проходили за днями, причем каждый следующий был чуточку жарче, чем предыдущий, по мере того, как они продвигались через пустыню на юг. По утрам — мучительный переход под невыносимо палящим солнцем; днем — нежные часы подле Белькассима (короткие перерывы с другим больше не волновали ее, поскольку Белькассим всегда стоял рядом); а ночью — отправление под теперь уже ущербной луной к новым дюнам и новым равнинам, и каждая следующая была дальше последней, в то же время совершенно от нее неотличимой.
Но если окружение неизменно казалось одним и тем же, то в ситуации, которая существовала между ними тремя, происходили определенные изменения: непринужденность и отсутствие напряжения в их незамысловатых отношениях стали заметно осложняться явной нехваткой теплых чувств со стороны старшего. Знойными днями, когда погонщики верблюдов ложились спать, он вступал с Белькассимом в нескончаемые пререкания. Она тоже была не прочь воспользоваться послеполуденным часом, но их спор мешал ей заснуть, и хотя она ни слова не понимала из того, что они говорили, у нее создавалось впечатление, что старший мужчина предостерегает Белькассима против линии поведения, которой тот твердо решил держаться. Войдя в раж, он, случалось, пускался в обстоятельнейшую пантомиму, изображая, как группа людей последовательно выражает сначала изумление, потом возмущенное неодобрение и наконец гнев. На что Белькассим снисходительно улыбался и с упрямым несогласием качал головой; в его позиции было что-то непримиримое и одновременно самоуверенное, что выводило из себя другого, который каждый раз, когда казалось, что дальнейшие уговоры бесполезны, вставал и отходил на несколько шагов, но лишь для того, чтобы минуту спустя повернуться и возобновить свои наскоки. Но было совершенно очевидно, что Белькассим не передумает, что никакие угрозы и предсказания, на которые способен его товарищ, не заставят его изменить принятое решение. В то же время отношение Белькассима к Кит приобретало все более собственнический характер. Теперь он дал ей понять, что позволил другому получить свою долю грубых ночных утех с ней только потому, что был исключительно щедр. Каждый вечер она ждала, что он наконец-то не согласится ее уступить, не встанет и не пойдет прислоняться к дереву при приближении другого. И действительно, он перешел к протестующему ворчанию, когда этот момент настал, но все же позволил своему приятелю овладеть ею, и тогда она предположила, что это — джентльменское соглашение, заключенное на время их путешествия.
Теперь уже не одно только солнце преследовало их на протяжении дня: весь небосвод целиком был как металлический купол, раскаленный от жары добела. Безжалостный свет обрушивался со всех сторон; солнце занимало все небо. Они стали осуществлять переходы лишь по ночам, трогаясь в путь сразу по наступлении сумерек и делая привал при первых же лучах восходящего солнца. Песок остался далеко позади, равно как и бескрайние мертвые каменистые равнины. Повсюду теперь торчали пучки сероватой, насекомообразной поросли: мучительно извивающийся карликовый кустарник с ороговевшей корой и несгибаемые волосатые колючки подобно какому-то отвратительному наросту покрывали землю. Пепельный ландшафт, по которому они шли, был ровным как пол. День за днем растения становились все выше, а шипы, торчащие из них, все крупнее и свирепее. И вот уже некоторые достигли размера деревьев, гладкоствольных, раскидистых и всегда непокорных, однако клуб табачного дыма и тот обеспечил бы более надежную защиту от натиска солнца. Безлунные ночи стали гораздо теплее. Иногда, когда они продвигались по темной местности, раздавался испуганный шорох метнувшихся у них из-под ног зверей. Она спросила себя, что бы она увидела, случись им вспугнуть их при свете дня, но реального страха при этом не испытала. В эту минуту, помимо всепоглощающего желания неотступно находиться возле Белькассима, ей было бы нелегко разобраться в том, что она испытывает на самом деле. Столько времени прошло с тех пор, как она в последний раз дала своим мыслям выход, озвучив их вслух, и потом, она уже привыкла действовать безотчетно. Она делала только то, что — неожиданно для самой себя — заставала себя уже делающей.
Однажды ночью, попросив караван остановиться, чтобы отойти в кусты по нужде, и различив возле себя в темноте смутные очертания крупного животного, она завизжала — и в тот же миг к ней присоединился Белькассим, который утешил ее, а потом вероломно увлек на землю и прямо там, на земле, нежданно-негаданно занялся с ней внеурочной любовью, пока караван стоял и ждал. У нее было впечатление — несмотря на болезненные шипы, оставшиеся в различных частях ее тела, — что не произошло ничего необычного, и она стоически промучилась остаток ночи. На следующий день шипы вызвали нагноение, и когда Белькассим раздел ее и увидел розовые рубцы, он обозлился, потому что они опорочили белизну ее тела, лишив тем самым его желание львиной доли присущего тому напора. Прежде чем он притронется к ней, она была вынуждена претерпеть крестные муки по извлечению каждого шипчика. После чего он маслом растер ей спину и ноги.
Теперь, когда их занятия любовью проходили при свете, каждое утро, по их окончательному завершению, он оставлял одеяло там, где она лежала, брал гурду с водой и отходил на расстояние в несколько ярдов, где стоял в ранних лучах солнца и тщательно мылся. После чего она тоже брала гурду и несла ее так далеко, как только могла, но нередко спохватывалась, что моется на виду у всего лагеря, потому что вокруг не было ничего, за чем она могла бы укрыться. Однако погонщики верблюдов в такие моменты обращали на нее не больше внимания, чем сами верблюды. Хотя она и являлась предметом жгучего интереса и постоянных дискуссий между ними, она оставалась частью собственности, которая принадлежит их хозяевам, такой же незыблемой и неприкасаемой, как пухлые кожаные сумки, набитые серебром, которые везли эти последние, перекинув их через плечо.
Наконец наступила ночь, когда караван свернул на хорошо утоптанную дорогу. Далеко впереди сверкал огонь; когда они поравнялись с ним, то увидели спящих вокруг костра людей и верблюдов. На рассвете они остановились возле деревни и поели. Когда наступило утро, Белькассим пешком отправился в селение, и вернулся какое-то время спустя с мешком одежды. Кит спала, но он разбудил ее и разложил вещи на одеяле в сомнительной тени колючих деревьев, знаком показав, чтоб она разделась и примерила их. Она была рада расстаться со своей одеждой, которая сносилась к этому моменту до состояния неузнаваемого тряпья, но настоящий восторг охватил ее, когда она влезла в широкие мягкие шаровары и облачилась в просторные сорочки и ниспадающее свободными складками одеяние. Белькассим внимательно ее осмотрел, когда она закончила и прошлась перед ним, охорашиваясь. Он поманил ее к себе, поднял длинный белый тюрбан и обмотал его вокруг ее головы, полностью спрятав ее волосы. После чего отступил на шаг и осмотрел еще раз. Нахмурился, вновь подозвал к себе и достал шерстяной кушак, которым туго опоясал верхнюю часть ее туловища, вдавливая в голую кожу прямо под мышками и крепко завязав на спине. Она ощутила некоторую стесненность дыхания и захотела, чтобы он его снял, но он отрицательно замотал головой. Внезапно она поняла, что это мужской костюм и что она была наряжена в него для того, чтобы выглядеть как мужчина. Она рассмеялась; Белькассим присоединился к ее веселью и несколько раз заставил ее пройтись перед ним туда-сюда; каждый раз, когда она проходила мимо него, он удовлетворенно шлепал ее по ягодицам. Ее вещи они бросили там же в кустах, и когда через час или около того Белькассим обнаружил, что один из погонщиков их подобрал — наверное, хотел продать, когда они в скором времени будут проходить через деревню, — он рассвирепел и вырвал их у него из рук, приказав вырыть неглубокую яму и сию же секунду их закопать под его бдительным оком.