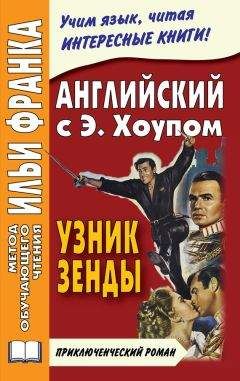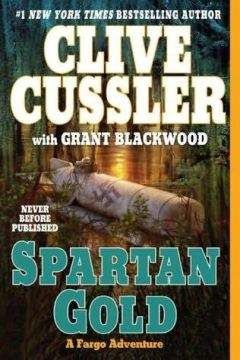Ласло Немет - Избранное
— Потом-то вы все-таки поженились, — сказала она, не желая спрашивать, но явно ожидая продолжения рассказала, коль скоро он был начат.
— Поженились, да только через пять лет. Я уж и в невестах походила, просватали меня за одного деревенщину, но я ему быстро дала от ворот поворот. А мужа моего будущего любовь за это время в люди вывела. Отслужил он, вернулся — за что дома браться? Хозяйства у него не было, а нанялся бы работником — никогда бы ему меня не видать. Сперва на железной дороге закинул удочку, но там места не было, потом в Пешт подался, в полицию, но что ему, человеку тонкому, обходительному, в полиции делать, вот и порекомендовали его в школу; был сперва истопником, а потом и служителем стал. Место было как раз для него, уж очень он в счете был силен — он и жалованье привозил по первым числам, даже учителя все у него получали. Очень усерден он был к учению, господин директор Секаш ну просто не отпускал его от себя. Но мой отец по-прежнему не хотел о нем слышать; у отца ведь тоже гонора этого мужицкого было хоть отбавляй — того, кто поученей, и за человека не считал. Да только и я уже не была телушкой бессмысленной, всех отваживала, кто б ни посватался. В конце концов разрешили мне за Имре выйти. И разве не моя правда была? Все-таки совсем другое дело рядом с образованным городским человеком жизнь прожить. Да будь я девушка, и сейчас тысячу раз городского предпочла бы, пускай хоть торговца. Разве можно сравнить меня с бедной моей сестрицей, а ведь ей крепкий хозяин достался — пятьдесят хольдов как-никак. И кому лучше житься будет — Кати, племяннице, с ее муженьком, грубияном да пьяницей, или той, на ком мой сын женится? Образование землей не заменишь.
— А как же вы познакомились? — спросила Жофи; глаза ее выражали смущение и острое любопытство.
Кизела с минуту колебалась. Она вообще не имела обыкновения рассказывать о начале карьеры своего мужа. В ее рассказах он появлялся уже как правая рука господина директора, если же она сообщала кому-либо историю своей любви, то вспоминала его уже гусарским капралом, постукивавшим тросточкой по сапогам перед ее домом. Можно было подумать, что покойный Кизела прямо родился в синем ментике и красных штанах и руки его никогда не держали ни вил, ни топора, ни молотка. Сейчас, однако, интерес Жофи так подстегнул ее, что она углубилась и в то прошлое, которое предшествовало синему ментику. К тому же Жофи вполне могла знать о нем от своей матери и сейчас просто испытывала ее…
— Ведь он жил у нас лет с тринадцати, родители его и воспитывали. А сами они из Верхней Венгрии, отец его был ремесленником или что-то вроде того, здесь и работал, в Хусарской пусте, и мать здесь умерла от тифа. А Имре мои родители взяли на воспитание. Он был тогда на редкость славный и очень чистенький; я сразу приметила, как красиво он ест, словно граф какой. И тогда уже был у него этот особенный лукавый взгляд — иногда сын мой так посмотрит, когда шутит с кем-нибудь.
На самом деле отец и мать ее мужа были поденщиками, наемниками-словаками, и радовались, когда сбыли сына с рук, отдав в свинопасы. Оттуда и пробивался Кизела в люди, став правой рукой господина директора, и теперь его сыну, унаследовавшему лукавые, с поволокой отцовские глаза, предстояло повторить отцову женитьбу, но уже ступенькой выше. Жофи не покраснела при упоминании лукавых его глаз, она собиралась даже еще что-то спросить у Кизелы о ее муже. Но они уже стояли перед щербатыми воротами кладбища, и легкий ветерок, пробежавший по листве задумчивых акаций, побудил Жофи отказаться от суетного любопытства. Она отыскала могилу отца и матери Кизелы, взрыхлила слежавшуюся комьями землю на холмике; потом они вкопали четыре горшка с пеларгонией и осмотрели надгробный памятник Хусаров, который нравился и Жофи; затем через поле и кустарник зашагали на новое кладбище.
Кизела чувствовала, что достигла многого за этот день, и предоставила теперь Жофи излить свое сердце. Кладбище было владением Жофи, здесь пристало говорить ей. И Кизела молча продолжала идти к новому кладбищу, неизменно готовая одобрять все подряд, ловя каждое слово, хоть сколько-нибудь благоприятное для разговора о пресловутом трактирщике, а может быть, о делах ее сына, чтобы ухватиться за это слово и двигаться дальше. Действительно, в медлительных, тягучих воспоминаниях Жофи трепетал словно бы слабый отголосок услышанного от Кизелы. Ее жалобы не были столь отчаянны, а застывшее горе смягчалось, ослаблялось какими-то внутренними колебаниями.
— Верите ли, сударыня, здесь я чувствую себя лучше всего, — сказала Жофи, когда они под вековыми деревьями шли к новому кладбищу прямо по высокой траве. — Если все мы рано или поздно здесь будем, зачем мучиться, зачем стремиться к чему-то… Помните старого дядю Хорвата, ведь как он муштровал свое семейство! Моя крестная платка себе купить не смела, он больше пилил невестку, чем собственный ее муж. И все затем, чтобы Хайфельдский участок выкупить. А теперь здесь он, это и есть его дом. Ох, и ругался бы он, если б увидел, что нет на его могиле ни единого цветочка, а этот малюсенький надгробный камень вон как перекосился. Знаете, я вот часто думаю: хорошо хоть, по крайней мере, что есть тут какая-то справедливость. Когда-нибудь все могилы станут такими, как те, что в конце старого кладбища, а придет день, и кости их милостей тоже вышвырнут из склепа. Когда я вижу детишек одного с Шаникой возраста, я говорю: бегай, бегай, пока жив, когда-нибудь и ты окажешься там, где Шаника. Хоть бы он подростком уже был, хотя бы разок увидеть мне его, как стоит он со своими одногодками перед церковью да поглядывает на розовые юбчонки девочек, что в храм господень входят! Потом-то все равно уж ничего хорошего в жизни нет. Или, вот как вы, сударыня, рассказывали, чтобы и его высматривала с чердака какая-нибудь девушка, ждала, когда же покажется его шляпа с приколотой розой… Бедный мой муж, у него хотя бы это было, — внезапно повернула она разговор, потому что они как раз проходили мимо каменной ограды склепа Ковачей. — Посмотрите, вот и эта гробница, какая она холодная, суровая, совсем как моя свекровь. Взяла и все камнем придавила, чтобы места для цветов не осталось. Однажды заплатила — и на всю жизнь хватит. Ее муж ворчал, что дорого, а она ему: «Чтобы я от внуков своих зависела!» Мой Шандор был не такой, как они. А может, к старости и он стал бы таким же, тоже ведь, бывало, чуть что: «А ну, заткнись!» Но он хоть ласковым быть умел или пошутит с тобой по-хорошему — с другими, правда, тоже, компанейский был человек, оттого и смерть принял. Но хоть пожил. Тогда-то я часто из-за этого слезы лила в укромном уголке, а сейчас не жалею: по крайней мере хоть что-то хорошее у него было, не то что у меня.
Она и сама опешила от своих слов: что это на нее нашло — на мужа роптать! Или правда это, что плакала она из-за его отлучек? Или ей не было хорошо с ним?
— Жаловаться мне не приходится, жили мы хорошо, — добавила она, неожиданно для себя ощущая сейчас какой-то привкус скуки в их тогдашней жизни. Вечно эта старуха с надутой физиономией, вечно ее брань, попреки, что Шандор не занимается хозяйством, ему бы только старосту на выборах сковырнуть да на охоту закатиться. А она — между двух жерновов… Сейчас ей совсем не шли на память их былые шутки-игры на чердаке, о которых так хорошо вспоминалось зимой, когда она грезила о минувшей любви. Она видела перед собой каменный склеп, и ей казалось, что и тогда они жили в таком же точно склепе.
— Он был хороший человек, только очень уж своенравный, — задумчиво продолжала она, глядя на пятки Кизелы, которая семенила впереди по кладбищенской тропке, и отводя вытянутой рукой откачнувшуюся ветку. — Помню — мы тогда еще, может, месяца два как были женаты, — пошли мы с ним в воскресенье вдвоем на виноградник. Лозу обрезать, гусениц уничтожать на деревьях — это он любил. Обычно не очень утруждал себя работой, но в саду все у него как-то спорилось, он за подвальчиком целый питомник развел. И был у него состав какой-то, которым он тлю на абрикосах уничтожал. Велел он мне бутыль с тем составом положить в сумку, в которой я обед несла. Да вот она, эта сумка, та самая. А я забыла. Пришли мы, а он и спрашивает, где бутыль. А мне стыдно сказать, что дома забыла. «Уж не хотите ли вы, говорю, тлю сейчас уничтожать? Тогда ко мне не прикасайтесь!» — «Это, говорит, не тебе решать, когда мне до тебя касаться. Где бутыль?» — «Дома забыла». — «Нарочно?» А у самого глаза уже искры мечут. «Нарочно». — «Тогда иди обратно и принеси. Да живо. Чтоб к обеду здесь была». А вы же знаете, сколько от виноградников до Ковачей. Ну, я ведь тоже за словом в карман не полезу. «Сами, говорю, идите». А он ка-ак заорет: «Не пойдешь, значит?!» — так заорал, что я все-таки пошла, конечно, а дома еще свекровь высмеяла — дура ты, дескать, дурой. Вот такой он был нравный. Это и Шанике передалось, помните ведь, как он иногда упрямился.