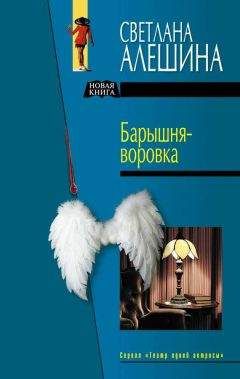Александр Житинский - Лестница. Плывун: Петербургские повести.
— Вы учтите, что они официально не зарегистрированы, — напоминала сзади Лариса Павловна, стараясь сохранять надменный вид, а Георгий Романович летел, едва успевая переставлять ноги, и дышал тяжело.
Пирошников взмахнул руками и отпрыгнул в сторону от лестницы, а отпрыгнув, упал на склон холма и покатился по нему. Все завертелось в его глазах, лестница с находящимися на ней действующими лицами замкнулась в гигантское серое кольцо, а потом исчезла, словно впитавшись в землю. Пирошников достиг основания холма и встал на ноги. Все тело ныло, он бросил взгляд на Наденьку и Толика, которые теперь бежали по воде, также поднимая миллионы брызг, причем того, ожившего Пирошникова с ними не было, но резкая боль заставила его посмотреть на грудь.
Падение с лестницы не прошло даром. Грудь Пирошникова была иссечена тончайшими царапинами, которые на его глазах медленно набухали кровью. Пирошников побрел к воде, чувствуя, как кровь начинает струиться по животу и ногам, капать на землю и стягиваться на солнце в корку. Он видел лишь Толика и Наденьку, которые остановили бег и теперь смотрели на него, но ему вдруг почудилось, что он сейчас должен умереть, и страх смерти сковал его движения. Он был уже в воде, речной песок постепенно втягивал его ступни, а вода поднималась к груди. Струйки дымчатой крови расплывались вокруг, окрашивая воду в розовый цвет. Пирошников последний раз взглянул на Толика с Наденькой и опустился под воду, что немедленно привело к пробуждению.
Что осталось от этого страшного сна, так это действительная сильная боль в груди. Владимир расправил плечи и потер грудь рукой, но боль не проходила. По всей вероятности, он простудился и вот столь прозаическая причина породила дурацкий и кровавый сон, который он только что испытал. Он повернул голову и удостоверился, что Наденька с Толиком благополучно спят на диване, будильник тикает, а рассвет еще не начался.
Пирошников попытался снова заснуть, но сон сбежал окончательно. К тому же тиканье будильника становилось все навязчивей, и наш герой понял, что наступает свойственное ему изредка по ночам состояние, которое он называл рельефностью. Оно всегда приходило внезапно, и тогда каждый звук словно обретал плоть, его можно было пощупать и взвесить, он отдавался в ушах и будил стук сердца, толчки которого слышались так же явственно и весомо. Когда наступала рельефность, мысли выстраивались и будто читались кем-то на ухо — такая в них была отчетливость, а самое главное — они сразу же рождались в словесном одеянии, минуя бесплотную и неясную стадию предчувствий, которая обычно предшествует формулировке.
Это удивительное, я бы сказал, вещее состояние знакомо и автору. Оно бывает редко, но всегда по ночам, в темноте и тишине, когда лежишь под одеялом и тебе кажется, что ты лишен тела, а существует лишь голова, разросшаяся до размеров Вселенной, в которой глухим метрономом отдается стук сердца. Это все равно как закрыть глаза на качелях, только на совершенно бесшумных и плавных качелях, движение которых отзывается под ложечкой тягучей сладостью.
Пирошников закрыл глаза и дотронулся рукой, показавшейся ему чужой, до лба. Прикосновение разбилось на осколки, заструилось по телу и проникло внутрь, где его собственный голос начал говорить, сначала тихо, а потом уверенней и громче.
Киргиз
«…Ты проиграл, и нужно начинать все сначала. Сможешь ли ты найти опору, которой не было у тебя все эти годы? И где ее искать? Сможешь ли ты придать смысл своей судьбе, ибо без него жизнь становится жалкой погремушкой, побренчав которой положенный срок, человек уступает ее другому, и тот, другой, так же исступленно и радостно потряхивает ею в воздухе, производя утомительный шум?
Ты должен знать, что поймут тебя немногие. Именно те, которые оглушены грохотом жизни и слышат в нем победные звуки бытия, не занимающегося собственным оправданием, именно те, которые, всегда отдавая должное твоему уму и душе, за твоею спиной смеялись и жалели тебя либо презирали, именно они (а их большинство) останутся убежденными в своей правоте, а ты останешься вечно сомневающимся, хотя будешь прав».
Так начал говорить с собою Пирошников, но тут остановился и прислушался к стуку будильника и понял вдруг отчетливо, что когда-нибудь он умрет. Наш герой представил себя лежащим в земле на глубине двух метров под ее поверхностью, одиноким, холодным и вечным. Он почувствовал всю тяжесть этой земли на груди, на руках, на лице, и ему сделалось страшно. Он подумал, что без него мир не изменится, и это навсегда. Навсегда!.. Такой неотвратимостью повеяло от этого слова, что у Пирошникова дрогнул подбородок и комок подкатился к горлу. Он попытался успокоить себя и вообразить, что когда-нибудь он снова родится и проживет еще одну жизнь, которая удастся лучше и будет интереснее.
«Ах, но это буду уже не я, это будет другой человек, потому что он ничего не вспомнит о моей нынешней жизни и не сможет обрадоваться, что живет снова», — подумал Пирошников.
«…Но если смерть неизбежна, какое значение имеет твоя судьба? Зачем ты мучаешься в поисках выхода? Его попросту нет. Радуйся мгновению и не оглядывайся назад, но и вперед тоже не смотри… Смотри внутрь!
Внутрь? Но и внутрь я не могу смотреть — там мерзко, там натоптано грязными башмаками, почти нет чистого места… Что это там? Ах, любовь!
Любоффь!.. Ты сам разменял ее на двухкопеечные монеты, чтобы обзвонить всех знакомых женщин и каждой сказать одно и то же. И каждая взяла у тебя частичку, и поблагодарила вежливо, и чмокнула губами в трубку, а потом короткие гудки сказали тебе: «Отбой». Любоффь!..
А вот честь лежит в уголке, прикрытая носовым платочком. Сорви его, и она начнет качаться, кланяясь и крича, как заводная кукушка: «Честь имею! Честь имею! Честь имею!»
Скромница-совесть, изогнувшись, как скрипичный ключ, висит на гвоздике и корчит из себя шпагу на пенсии. Когда-то она была отточена, пряма и даже способна на легкие уколы, но ты использовал ее как украшение своего внутреннего «Я», похожего на неприбранную комнату, и вот теперь она ничем не отличается от штампованной пластмассовой собачки с высунутым языком, каких вешают на дверях домашнего туалета.
А где же твоя храбрость? Нет ее. Зато ходят, взявшись за руки, напудренные трусости в шляпках, чертовски привлекательные на вид. Они весьма кокетливы; так и хочется простить им грехи и выдать годовой желтый билет, чтобы не нужно было каждый раз оправдываться обстоятельствами.
Смотри, смотри! Да не закрывай же ты глаз, прошу тебя! Вон там, видишь? Твоя пошлость размазана по стене слоем прогоркшего желтого масла, которое капает, когда ты перегреешься спиртным, и растекается по полу вязкой прозрачной лужей.