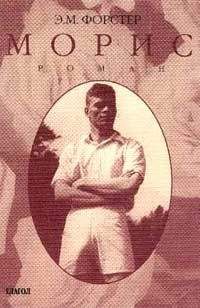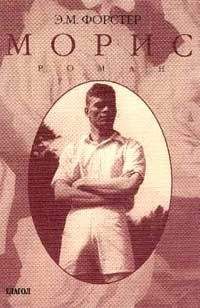Сью Кид - Кресло русалки
Однажды в дверях возникла Хэпзиба с банкой, где хранился палец матери. Мать поставила ее на кружевной платок на туалетном столике между статуэткой Девы Марии и фотографией папы в лодке. Постепенно вокруг появились другие предметы – три раковины морских гребешков, старая морская звезда… Все вместе стало походить на маленький ковчег.
Я не спросила ее, что это значит – вмешиваться казалось неправильным, – но чувствовала, что она, каким-то одной ей ведомым образом, приносит свой палец в жертву океану, надеясь, что и он преобразится во что-то еще, наподобие пальцев Седны.
Однажды вечером, когда запах моря вместе с порывами бриза со стороны Костяного пляжа врывался в открытые окна, я пошла в спальню матери пожелать ей спокойной ночи. Она сидела за столиком, глядя на палец в баночке. Я легко провела рукой по большому пальцу, коснувшись шрама на указательном.
– Скажи мне, зачем тебе нужно было так поступать с собой? – попросила я.
Когда она взглянула на меня, глаза ее были такими ясными, какими я их никогда не видела.
– В прошлом году, в феврале, прямехонько накануне первой среды Великого поста, я нашла «мертвый палец», растущий рядом с домом возле водопроводного крана. Я почувствовала его запах еще на крыльце. Два маленьких кустика. На следующий день их было уже три. Они никогда не росли во дворе с тех пор, как умер Джо, и вот вам, пожалуйста. Я все думала и думала об этом, Джесси. Мне снилось, что ветки прорастают через окна в дом. Надо было во что бы то ни стало это прекратить. Все прекратить. – Она протянула руку к лицу отца на фотографии, и на глаза ее навернулись слезы. – Мне хотелось как-то поправить то, что я сделала. Уничтожить содеянное. Мне просто хотелось его вернуть.
Вот вое, что она об этом сказала. И никогда больше к этому не возвращалась.
Она хотела уничтожить содеянное. Она хотела его вернуть.
Не знаю, пойму ли это когда-нибудь. Как бы то ни было, сажая палец в розовом саду и окружая баночку морскими безделушками, она не просто совершала печальный жест искупления. Это была последняя, отчаянная попытка дотянуться до него. Мне кажется, ей хотелось воссоздать его, дать возможность затянуться кровоточащим внутренним ранам, сочленить его в памяти таким, каким он был, какими были они, прежде чем все случилось. Ей хотелось, чтобы чувства вины и желания прекратились.
В те дни я непременно снова и снова рисовала отца, каким он представлялся мне в ту ночь: сидящим в русалочьем кресле, только что выпившим свою смерть и свою жизнь. Моделью для лица я выбрала фотографию со столика матери, на которую то и дело скашивала глаза, лицо, морщины на котором провел своим резцом ветер, кожа, продубленная, как на сапогах, словом, вид типичного морского волка, как у многих островитян. Его крупная фигура возвышалась на кресле с царственным достоинством, как на троне, держась за подлокотники в виде крылатых русалок и в упор глядя на меня.
Прямо под креслом, в самом низу холста, как некое подпольное царство, я рисовала прямоугольную потайную, волшебную комнатку. А в ней – маленькую девочку.
Я работала в гостиной, временами на крыльце, не желая скрывать то, что делаю, от матери, которая часами сидела рядом и, вся трепеща, следила за возникновением его образа, словно присутствуя при рождении ребенка.
Я чувствовала примерно то же, но причины у нас были разные. Я поняла, до какой удивительной степени моя жизнь сформировалась близостью отца, его жизнью и смертью, яблочными шкурками и трубкой. Я отчетливо видела это, когда он появлялся под моей кистью: Джо Дюбуа, сокровенное, пульсирующее ядро, вокруг которого обретала форму моя жизнь.
«А кто это в ящике под креслом?» – спрашивала мать, глядя через мое плечо на картину.
«Полагаю, это я», – отвечала я, слегка раздраженная словом «ящик». Я не думала об этом так, но видела, насколько она права. Маленькая девочка вовсе не в чудесной волшебной комнате. Она в ящике. Та же девочка, которая вырастет и начнет выражать себя через увиденное в маленьких художественных ящичках.
Закончив один из портретов, я повесила его у себя в спальне, где он выглядел почти как икона, способная разговаривать со мной о невидимом. Не секрет, что я идеализировала отца, делала все, чтобы его порадовать, – быть зеницей его ока (если использовать самое худшее и самое очевидное клише), – но, лишь завершив работу, я поняла, сколь печальны были эти старания. Поняла, как много маленьких, беззащитных мест они заняли в моей душе. Даже более, я никогда до конца не понимала, что то же самое происходило у меня с Хью. Двадцать лет я приспосабливалась к нему, не имея ни малейшего понятия, что значит распоряжаться собой. Иначе говоря, обладать собой.
Я чувствовала себя так, словно нашла волшебную горошину под перинами, из-за которой принцесса каждую ночь металась во сне и все тело у нее было в синяках.
Я сидела, скрестив ноги, на постели и, не отрываясь, глядела на картину, слушала свой плеер и думала о том, каким идеальным отцом был Хью, не просто для Ди, но и для меня. Господи, для меня тоже.
Я просто представить себе не могла, что произойдет, если я откажусь от этого. Если попытаюсь установить отношения не только с его отцовской ипостасью. Пусть он будет Хью. Просто Хью.
В День матери позвонила Ди. Я стояла на кухне, держа трубку настенного телефона, прислонясь к холодильнику. Сначала весь разговор строился вокруг счастливого Дня матери и планов на лето. Ди сказала, что поедет домой, чтобы побыть с отцом.
При упоминании о Хью возникла пауза, а затем голос Ди обрушился на меня, яростный, непонимающий.
– Почему ты это делаешь?
– Что делаю? – Глупее я ничего не могла придумать.
– Ты знаешь, о чем я! – крикнула Ди. – Ты его бросила. И даже ничего не сказала мне.
Я услышала, что она плачет, эти ужасные приглушенные звуки издалека.
– О, Ди, извини меня. – Это поистине превратилось в песню с постоянным припевом: «Извини. Извини. Извини».
– За что? – умоляюще спросила она. – За что?
– Не знаю, как я смогу что-нибудь тебе объяснить.
Я вспомнила, что сказал Уит в тот день в лодке, вспомнила дословно. Мне никогда не заставить их понять, что мне нужно побыть наедине с собой: Я имею в виду – духовно. Он назвал это уединение «одиночеством бытия».
– А ты попробуй, – попросила Ди.
Вот примерно что я ей сказала, предварительно переведя дух.
– Наверное, это прозвучит нелепо, но моя жизнь превратилась в какую-то стоячую лужу, словно атрофировалась. Вечно приходилось играть какие-то роли. Они мне нравились, Ди, правда нравились, но они иссушали меня, и это была не я. Понимав ешь? Я чувствовала, что должна быть какая-то другая жизнь под той, которую я вела, вроде подземной реки, и я умру, если не докопаюсь до нее.
Последовавшее за моими словами молчание было для меня передышкой. Я скользила спиной по холодильнику, пока не села на пол. Где-то там, когда-то раньше, я утратила одиночество бытия, говорившего мне, кто я. Объяснявшее тайну моего существования. Я не смогла нести весь мир на своих плечах, нырять и выныривать из собственных эротических глубин.
– Ты больше не любишь папу? – спросила Ди.
– Конечно люблю. Конечно. Как я могу не любить его?
Не знаю, зачем я сказала ей это. Утешительная правда. Вот только в какой пропорции?
Мы с Хью прожили двадцать лет с такими добрыми намерениями, но отчасти в воображаемом мире, проистекавшем из нашей неразлучности. В деле жизни мы стали исключительно функциональными партнерами. Даже в сокровенном деле, диктовавшем то, что нужно другому: хороший отец, хорошая дочь, маленькая девочка в ящике. Все эти призраки, которые прячутся в трещинах взаимоотношений.
Казалось правильным разрушить все это. Не причинять боль Хью – я всегда буду жалеть об этом.
– Ты останешься там на все лето? – спросила Ди.
– Не знаю. Знаю только, что я… – Я не знала, сказать ли это; хочет ли этого Ди.
– Что ты любишь меня, – закончила она, и это было именно то, что я собиралась сказать.
Я заглянула в монастырь в начале мая. Жара наступила, как настает обычно, и стала ночь за ночью укрывать остров душным шерстяным покрывалом. Это гнетущее состояние должно было продлиться до самого октября.
Подходя к приемной, я увидела дюжину монахов, сидящих на четырехугольной лужайке аббатства и плетущих неводы. Монахи расположились в точном порядке, как шахматные фигуры на большой зеленой доске, каждый – с грудой мотков бечевы на коленях. Я помедлила, мгновенно вернувшись в детство, в те дни, когда монахи прятались от испепеляющей жары в доме для плетения сетей, продуваемом прохладным бризом с болот.
– Кондиционера им не хватает, – произнес чей-то голос, и, обернувшись, я увидела лысого монаха, которого встретила в тот день, когда купила в сувенирной лавке книжку отца Доминика. Он, нахмурясь, смотрел на меня сквозь очки с толстыми стеклами. Мне потребовались считанные секунды, чтобы вспомнить его имя. Отец Себастьян. Человек без чувства юмора. Человек, державший монастырь в ежовых рукавицах.