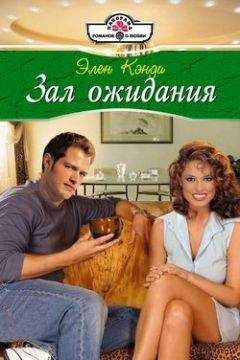Георгий Осипов - Конец января в Карфагене
Значит, все-таки Блок. А там, где Блок — там не берут, не покупают. Там самим есть, что предложить. В основном — творческие планы, и больше ничего, кроме них. Из выпивки максимум, на что можно рассчитывать — сухарь, самый дешевый и кислый. Как писала одна девочка, придумывая на уроке шуточное меню: «Говно маринованное. Моча натуральная».
Если прическа «под Каддафи», гад его морду, и аскетичные скулы, значит — не гурманы, не гурманы… Купечествовать не умеют, да и не хотят. О, если бы, йе-йе-йе-сли б они все, каждый у меня… что-нибудь с получки, с пенсии, со стипендии покупали: кто дисочек, кто — плакатик. А я бы сидел дома, как падишах, со справкой из дурдома, и, подмигивая Моше Даяну на стене (выдранному мной из журнала Lui), подсчитывал чужие деньги.
Помимо тех двух синих томов, что подсунул мне однажды Клыкадзе, а потом, перенеся «белочку», спохватился и прибежал забирать, с Блоком меня ничего не связывало.
— Мы собираемся ставить «Розу и крест», — объявила Аннушка, умело присаживаясь на коврик.
Она, оказывается, режиссер, официальной работы нет, тем не менее она собирает способную молодежь и занимается с ними из любви к искусству. Раньше она руководила кружком глухонемых, это за центральной стеклотарой, куда мы с Даней любим сдавать посуду.
Это в том доме культуры, где Ящерица преподавал гитару, мысленно изумился я. Но там действительно собираются одни глухонемые. При чем же тут Мардук, если основной его козырь — это оперный голос?
Пантомима — пояснили мне. Мимика и жест. Блок, но без текста. Зато, по замыслу Анны, будет много музыки. Могу и я быть чем-то полезен. Более чем. Мардук нам все уши продолжал про ваши разносторонние познания и способности. Вот как? А я думал, он меня недолюбливает. Вы, Аня, кстати, поздоровались со мной, на прогулке, разве мы знакомы?
— Нет, — она опустила глаза, и тотчас подняла их снова. — Но я уже давно наблюдаю за вами и всегда кивала вам при встречах, хотя вы этого и не замечали.
— Давно — это с каких пор?
— С того летнего дня, когда увидела вас в зеленых вельветовых брюках и потрясающей клетчатой рубашке, и в черных очках…
От этих слов я сразу постарел минимум на семь лет. Мардук молча покачивал головой. Дело в том, что брюки с рубашкой я носил довольно долго. А вот очки… Очки просуществовали две недели. Никто их у меня не отнимал. Это Армянский Карузо решил помодничать, выклянчил их у меня и после пьянки вернул с безобразно треснувшим стеклом. Получается, Аннушка наблюдает за мной с четырнадцатилетнего возраста?
«Но… но!» — как говорят и Папа Жора, и сам Азизян, предваряя глубокую мысль: «Шо тут нужно отметить». Нужно отметить, что я не обнаружил в Аннушкином любопытстве к моей персоне ни капли физического интереса. Судя по ее словам, она следила за мной с той же необъяснимой страстью, что заставляет меня крутиться рядом с людьми, посещая места, где они бывают. Возьмем ту же самую «балку», где я могу разглядывать их живьем, потому что мне лень помногу и подробно описывать их на бумаге. Примерно так же экономные дяденьки предпочитают подглядывать в женские туалеты, чтобы не тратиться на порнографию.
Желание Аннушки прозрачно и безвредно на вид, как самая смертельная кислота. А воздух в комнате чем-то пропитан, чувствуется какой-то острый привкус. Я уже окрестил его про себя «запах миндаля».
Мардук! Гомсэк! Люди, владеющие своим телом, как тот рыгающий огнем негр, которым они поголовно восхищаются. Они ловко садятся и с легкостью встают, умеют показывать с помощью пальцев на стене силуэты разных животных. Одним словом — иероглифы. Но при этом ничего не хотят покупать. Совсем не умеют расставаться с деньгами.
После чайной церемонии с сухим печеньем, иначе такое чаепитие не назовешь, Мардук завел разговор о своей женитьбе, проблемах со здоровьем и «жлобских замашках» собственных родителей. Ну, штамп в паспорте ему скоро понадобится для легализации своего педерастичегого альтер-эго. Без бумажки, при всем нашем самомнении, мы что-то вроде насекомых. Хочешь быть любимым — женись, любишь несовершеннолетних — доставай справку об импотенции. Говорят, она спасла Михаила Водяного.
Заметив, что я пытаюсь рассматривать большую картину без рамки, Аннушка включила верхний свет. Неизвестный мне художник изобразил голову человека на кубическом постаменте. Почему-то я сразу решил, что это автопортрет. Выпуклые веки, шелковистая бородка, длинные пряди волос, овевающие благородно лысеющий череп, чувственные губы. Крови не видно, но голова как будто живая. И к этой любовно выписанной голове отовсюду тянутся анемичными руками полупрозрачные девы, нимфы всевозможные. Кому-то, быть может, о чем-то говорили черты их полудетских лиц, кто-то мог назвать каждую из них по имени.
Аннушка по-актерски ловко вскочила с коврика и встала рядом со мной, как в спектакле про юных подпольщиков. «Это нарисовал один парень-инвалид, — горячо потек заученный текст. — Вы могли о нем слышать, а могли и нет. Его однажды арестовали…»
Фамилия художника готова была слететь у меня с языка, но тут Аннушка сама ее назвала, не дождавшись ответа. Отчего-то ей показалось, что мне обязательно должна быть известна судьба этого хромого живописца с периферии.
— Большая труппа у вас? — спросил я у Мардука, пока хозяйки не было в комнате.
— Ребята приходят, когда могут. А постоянных, верных артистов — человек шестнадцать. Больше десяти. Вы не видели нашу «Вестсайдскую историю»… Много потеряли.
— Афиши видел. Но не рискнул.
— А мы вас ждали.
Мардук пропел кусок из Леонарда Бернстайна.
Я поаплодировал.
Итак, шестнадцать человек, и фисташковый трупак. И все как один подчиняются маленькой женщине в брючках. Временами эта Аня — вылитый Ролан Быков в паричке, из кинофильма «Мертвый сезон».
* * *Большое горе и беда большая
У всего мира и у всех людей
… … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … …
Хочу я крикнуть — это не был Данко!
Он с сердцем Ленина погасшая звезда.
А Мардук мне об этом не сказал. Мардук от меня это скрыл. Правда, теперь я и сам знаю, что официально Анна служит в почтовом отделении, разносит телеграммы. Несмотря на развернувшуюся борьбу с тунеядством, Азизян умудряется вообще нигде не работать. Да и я, между прочим, тоже. А вышеприведенное стихотворение хотел отправить в Москву телеграммой какой-то пожилой человек, потрясенный смертью Андропова. Телеграмму не приняли, но Аннушка умудрилась зажать бланк, перепечатала его у себя дома на машинке и теперь раздает знакомым без комментариев, мол, понимайте сами.
Я как-то не замечал за ней антисоветских настроений, ни разу не слышал от нее ни анекдотов, ни реплик в адрес Кремля или Лубянки. Скажу больше — меня ошеломила ее реакция на безобиднейшую «Москву-Петушки». Я шутки ради предложил ей поставить сию поэму со своими питомцами, ну и подсунул экземпляр, наивно полагая, что в зареченских богемных кругах такое чтение — вполне нормальная вещь. Мне, конечно, следовало бы обратить внимание и на «Розу и крест», и на средневековое целомудрие всех этих полуподпольных пантомим, но, повторяю — мне казалось, что они давно привыкли читать классику самиздата, тем более если в ней отсутствует «политика» как таковая.
Реакция Аннушки стала для меня неприятным сюрпризом. Она «набросилась на мне как лютый зверь». Это уже был другой «Ролан Быков» — недалекий фанатик из фильма «Служили два товарища», готовый поставить к стенке недавнего друга ради каких-то своих абстрактных представлений о пороке и добродетели.
Обыкновенно в такой ситуации человек не знает, что ему сказать в свое оправдание, да и в чем, собственно, он должен оправдываться. И перед кем! Перед этой реабилитаторшей горстки глухонемых и питуриков? Оправившись от шока, я вздумал было ей нахамить: «Ты-то, тётя, чем недовольна? Перестраховщица! Да без американцев твои питурики никогда свободы не получат».
Однако потом, после обиды и гнева, навалились привычные усталость и чувство отчаяния — опять связался с какими-то тупыми колхозниками. Им, вон, арабы рубахи дарят. Негры своих народных исполнителей послушать дают: берите, товарищи, только вернуть не забудьте! Эх ты, тютя, нашел, перед кем албанскую душу распахивать.
Зато я не без удовольствия обнаружил, что Анна Мальчевская, выходя из себя, переставляет в словах звуки и ударения. Для поэмы несчастного бухарика Венички у женщины-режиссера нашлось только одно слово.
«Блеватúна!» — семь или восемь раз повторила Анна, словно реплику в пьесе драматурга-абсурдиста.
«Блеватина поднимает паруса» — молча отметил я.
Если бесится, например, Азизян, то бормочет себе под нос: «Сука ебáная». Мне до сих пор неизвестно, чем отличаются «сволóта» и «сволотá», но произносят это слово по-разному. То так, то этак. Ну, а про то, как взрослые, срывая злость на сыне-подростке, говорят не «магнитофон», а почему-то «приемник», знают, я думаю, все. При этом они обязательно угрожают его разбить или выбросить. А если вы этого не слышали, значит, у вас было так называемое счастливое детство, которое вы провели среди древних греков.