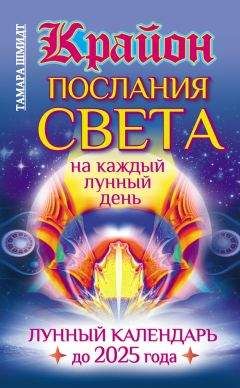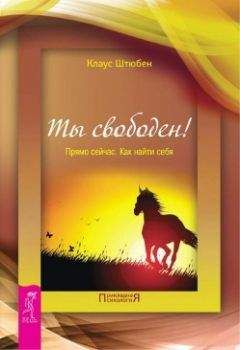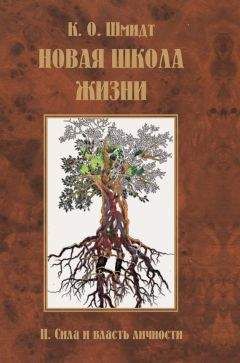Робер Андре - Дитя-зеркало
— Пелажи очень милый человек и очень, очень хороший врач, я не отрицаю, — говорила она, — но он безвольное существо, его необходимо время от времени встряхивать и класть в споре на обе лопатки.
Именно так с ним и поступали; думаю, что его и любили-то прежде всего за эту всем очевидную слабость. Когда он стал у нас своим человеком и ореол спасителя, которым он вначале был окружен, постепенно рассеялся, ни с кем в нашем доме, насколько я помню, не обращались так скверно, как с ним, никого так безжалостно не третировали и не мордовали — мама ужо не только отнимала у него шляпу, но даже иногда топтала со ногами, — и, несмотря на все унижения, он неизменно возвращался к паи снова и снова, как будто уже не мог без этого жить…
Так наш развод уходил понемногу в песок, если попытаться с помощью этой метафоры выразить суть двусмысленных пророчеств моей тетки Луизы, от которой в данном случае потребовали, сами понимаете, раскинуть заветную колоду. Как и прежде, тотя возникала в доме как призрак, приносила мио фигурные сласти и особенно самозабвенно предавалась созерцанию духов, что могла осуществлять теперь лишь чисто умозрительным путем, поскольку зрение у нее сильно ослабело из-за катаракты, и от этого у нее еще больше прибавилось странностей. Она уже не прикладывала руку козырьком к своим тусклым глазам и не вопрошала, возникая в дверях: «Глянь-ка, сестрица, не едет ли кто?» Теперь, то ли не замечая из-за своей полуслепоты, что я уже вырос, то ли в силу какой-то особой склонности придавая образам живых ту же застывшую неизменность, какая присуща образам умерших, она вместо приветствия декламировала мио комический монолог, который я всякий раз находил очень странным и поэтому он меня совсем но смешил:
Болтовня-то болтовня, Да нету дыма без огня! У меня кошачья лапа, На ушах большая шляпа — Не хотите ль, господа, Заглянуть ко мне сюда? В потайном своем чулане Сидит бука на диване, По углам глазами шарит, На огне чего-то жарит. Сальца маленький кусочек
Я у буки попросил,
Рассердился бука очень, Щедро палкой угостил.
— Ай-яй-яй, хозяин злющий.
Ты за что кота огрел?
— Чтобы этот кот хитрющий От безделья по жирел!
Ее общение с духами по-прежнему носило очень оживленный характер, и для того, чтобы содействовать более активной циркуляции флюидов между землей и индивидуумом, она каждое утро заставляла себя есть глину, которую где-то покупала в маленьких горшочках, похожих на те, в каких продают йогурт; закончив свой стихотворный монолог, она обычно ставила один такой горшочек на ночной столик в нашей спальне. Я так и не знаю, попробовал ли отец это снадобье; хотя он и был падок на всякие новые лечебные средства, а тетя Луиза приписывала своей глине еще и омолаживающий эффект, по очень уж отца пугал отвратительный вкус этой глины.
Странно другое. В результате регулярного приема глины тетя теперь наверняка должна была получать внушительные порции флюидов, однако, когда речь зашла о том, чтобы предсказать наше будущее, она заставила себя очень долго об этом просить. Быть может, она уже подпала под влияние тех сект, в частности секты «Крисчен Сайенс», которые вскоре принудят ее отказаться от всякой оккультной практики. А может быть, дело было просто в мучившей ео катаракте. Так или иначе, но она боялась пробудить враждебные силы, способные худо повлиять на это будущее, и без того поколебленное неосторожным решением моей мамы. Не всегда бывают уместны эти попытки что-то узнать… о будущем… Маме пришлось выказать крайнее нетерпение, даже намекнуть, что ссылками на мнимые профессиональные трудности Луиза пытается прикрыть какую-то недостойную дипломатическую игру, чтобы моя тетя решилась наконец вытащить на свет свою колоду и после бесконечного ее тасования, а также многократного вычерчивания над нею в воздухе магических узоров, запросить мнение карт о нашей судьбе.
Нет, все же слабое зрение, пожалуй, играло тут некоторую роль; масть карт она еще кое-как различала, но фигуры повергали ее в полное замешательство, и, несмотря на огромную практику, она часто просила нас говорить ей, какая открылась карта — дама или валет. Понятно, что в таких условиях карты выдавали информацию весьма неохотно. Мужчины, которых обычно в жизни следовало опасаться, если они представали в своих символических одеяниях в качестве либо вестника, либо возлюбленного, либо супруга, открывались теперь в поистине непристойном смешении всех качеств сразу, что было знаком легкомыслия, непостоянства или предательства. Даже сама мама, когда она тоже наконец появилась («Смотрите, это вы, Жюльетта, это вы!»), предстала в окружении каких-то сомнительных личностей. В деле развода ей следовало действовать с величайшей осторожностью.
— Вы уверены в этом, Луиза?
— Насколько вообще можно быть в чем-то уверенным, — отвечала тетя ничего по значащей фразой, и снова утыкалась носом в колоду, точно взявшая след собака. — Предстоит дальняя дорога, вернее сказать, пребывание на курорте, где что-то должно произойти, но будьте осторожны! Мужчина, который уже один раз появлялся, возвращается снова. Какую роль может он играть? Тяните карту… Еще одну. Нет, все по-прежнему неясно. Тяните еще одну, надо поглядеть… Ничего не поделаешь! Нет…
Все оставалось зыбким, двусмысленным и туманным, как в потайном чулане, где тебя вместо сала угощают увесистой палкой. Я был тоже, как и мама, разочарован, только по противоположной причине» Мне бы хотелось, чтобы карты оказались откровенно плохими, чтобы духи дружно выступили против наших планов со всей решительностью и прямотой. Ибо неясность их ответов оставляла место для сомнений в тетиной компетенции и позволяла маме пренебречь ее предостережениями.
Мама, наверно, была не так уж и не права, когда намекала, что тетя Луиза ведет себя недостаточно откровенно — впрочем, то было давнее мамино подозрение — и что у нее ослабели не только глаза. Маме потребовались дополнительные консультации, она вынуждена была обратиться к профессиональным гадалкам, и эти дамы, похожие не то на цыганок, не то на старых сводней, осыпали ее еще одной порцией самых противоречивых пророчеств. Неизвестно было, к кому же теперь обращаться за советом, и меня не покидало ощущение тревоги, как происходит всегда, если ты с беспокойством чего-то ждешь и чего-то боишься, и нет перед тобой ни одного конкретного факта, за который можно было бы уцепиться: я входил в то психическое состояние, которому суждено было стать для меня привычным и постоянным. Ни одного конкретного факта? Пожалуй, что так, и, однако, перебирая в памяти предсказания тети Луизы и прекрасно понимая, что формулам заветной колоды присущ широчайший диапазон^ позволяющий любую из них затем толковать по желанию как сбывшееся пророчество, я тем не менее всякий раз натыкаюсь на слова о пребывании на курорте, и слева эти, на первый взгляд совсем безобидные, приберегали для меня, как будет видно впоследствии, пренеприятный сюрприз. Хотя Луиза и плохо видела, но благодаря опыту и интуиции, несомненно, предчувствовала опасности, о которых я и не подозревал. Даже ее стихотворный монолог— не был ли и он замаскированным предупреждением вроде тех дерзких выходок, которые позволяли себе придворные шуты?
А месяцы шли, уже не за горами было и лето, лето в зыбучих песках, в которых увязал наш развод, и все оставалось по-прежнему неизвестным, неизбежность растягивалась, как резина, и становилась неотъемлемой частью нашего существования, и ее угасавшее пламя время от времени опять разгоралось благодаря сценам, но вот что удивительно: если все эти события и накладывают свою печать на мой характер, то настроение мое при этом отнюдь не делается грустным.
Я учиняю всяческие безобразия
В самом дело, по мере выздоровления я вновь обретаю вкус к жизни, что выражается в чрезмерном возбуждении, которое трудно удерживать в каких-либо рамках. Возможно, я просто изнемог постоянно сидеть взаперти, устал созерцать мир лишь сквозь оконные стекла; нельзя же всерьез считать прогулками те короткие и редкие выходы из дому в хорошую погоду, которые длятся ровно столько времени, сколько нужно, чтобы дойти от нашего дома до улицы Клод-Берпар, где моим единственным развлечением оказывается возможность постоять у окна, выходящего на сады Валь-до-Грас. Забавы, которым я при этом предаюсь, могут дать вам какое-то представление о бурлящих во мне силах.
Разбитый параличом дядя был вынужден отказаться от радостей охоты и рыбной ловли, но он не утратил интереса к оружию, квартира моих миролюбивых бабушек битком набита всевозможными ружьями, револьверами, и карабинами, и я тайком пользуюсь этим арсеналом.
Я отыскал патроны, предназначенные для красавца карабина «Флобер», и всякий раз, когда оказываюсь в задней комнате один, упражняюсь в стрельбе по птицам старого парка, с пользой применяя уроки, которые так неосторожно давал мне в свое время крестный. Это жестокое развлечение не вызывает у меня больше угрызений совести. Я безжалостно палю по всякой летящей цели, не причиняя, к счастью, птицам большого вреда: то ли я не очень-то меток, то ли оружие плохо отлажено. Мои тайные подвиги продолжались довольно долго — если тетка моя слепла, то бабки понемногу глохли — и были прекращены только после возмущенного выговора и угроз заявить в полицию, с какими к нам ворвался один сердобольный военный, проходивший по парку как раз в тот момент, когда я подстрелил воробья. Я испугался и от этого сразу вспомнил свою лицемерную любовь к животным. Впрочем, моя репутация несносного ребенка и без того уже достаточно утвердилась, и эта последняя выходка лишь грозила переполнить чашу терпения. Но чаша переполнилась в другой раз.