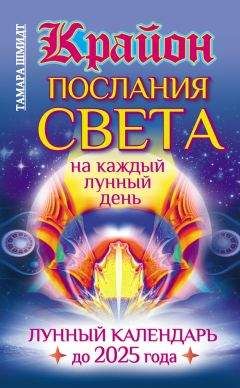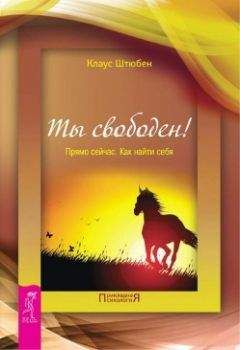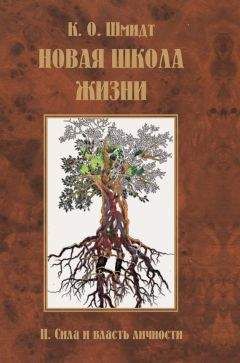Робер Андре - Дитя-зеркало
— Пусть это останется между нами, мой мальчик, запомни этот урок. В жизни ни на кого нельзя рассчитывать.
Я охотно соглашался, но уже понимал, что она-то урока не запомнит, что она никогда не научится укрощать свой необузданный, порывистый нрав, заставляющий ее то безрассудно доверять первому встречному, то бросать в лицо людям обидные слова — она называла это «говорить правду в глаза», — а многие этого не прощают.
Но иные прощали, и я присутствовал как-то при ослабленном и переведенном в комическую тональность варианте наших вечерних сцен, опять ставших ссорами. Дело было под вечер, когда к нам зашел доктор Пелажи, чтобы сделать мне один из тех бесчисленных уколов, которыми сопровождалось мое выздоровление. Он быстро всадил в мои до ужаса истыканные ягодицы иглу, так что этот короткий врачебный визит можно было счесть просто предлогом для того, чтобы посидеть потом в столовой за стаканчиком портвейна, а мама воспользовалась этим и подвела итоги своей личной жизни.
Как всегда обворожительный, любезный, склонный к иронии, Пелажи не желал принимать наших планов всерьез, и это приводило маму в ярость. Поджимая губы под усами и насмешливо поглядывая на маму, он мелкими глотками потягивал вино и бросал сконтические реплики, которые доставляли ему видимое удовольствие. Разводиться? Зачем? Жизнь и так достаточно сложна, и женщинам нет никакой нужды разводиться для того лишь, чтобы удовлетворить свой каприз. Нужны серьезные основания. Имеются ли они у нас? Более чем сомнительно… Мама возмущенно протестовала, а он, не обращая на это никакого внимания, продолжал излагать целую философию, отмеченную печатью разочарования и скепсиса, по которой выходило, что удовлетворять свои желания нужно без шума и с соблюдением внешних приличий. Тут на ум приходит сравнение с известным персонажем, и, разумеется, мама сразу высказывает его:
— Да вы просто Тартюф!
А Пелажи смеялся, как будто ему сделали комплимент. Иногда он решался заходить в своих поддразниваниях еще дальше:
— Если вы даже и разведетесь, что это, в сущности, переменит?
— Как?
Прежде чем пустить очередную стрелу, Пелажи отпивал глоток портвейна или вытирал платочком усы.
— Да так. Нужно смотреть правде в глаза, моя дорогая. Мне жаль, что я вынужден вам это сказать, но вы никогда ни с кем не уживетесь.
— Ну, знаете, это уж слишком!
Тогда доктор начинал от души смеяться, но, словно сдерживая себя, как будто ему в голову пришла презабавнейшая мысль, которую очень трудно не высказать вслух.
И он высказывал ее с невинным видом, притворяясь смущенным:
— Что ж греха таить, ведь характер у вас, грубо говоря, свинский…
Иногда мама, в зависимости от ее настроения, поддавалась веселости доктора, чей тон позволял предположить, что свинский характер вовсе не такой уж недостаток, а скорее свидетельство яркой индивидуальности. Но порою она сердилась, и беседа приобретала резкость, хотя в ту пору глухота у доктора только начиналась, и он еще не был обидчив.
— Возможно, у меня в самом деле скверный характер, вам, конечно, виднее, но лучше иметь плохой характер, чем быть таким лицемером и эгоистом, как вы!
Вначале доктор пропускал выпад мимо ушей. Он продолжал подтрунивать, но мама не унималась:
— Вы думаете только о себе, о собственных удовольствиях, вы эгоист да еще впридачу и трус!
Пелажи протестовал более энергично, но чем энергичнее он протестовал, тем сильнее нападала на него мама, радуясь, что нашла уязвимое место. Обвинения сыпались градом. То его иопрекали за лень и бездеятельность: ведь он ничуть не заботится о своей карьере, только и знает, что в кино ходить да бог знает где шляться, вот и останется на всю жизнь докторишкой своего квартала! — это формула произносилась с крайним презрением; то от него требовали сказать без обиняков, на чьей он стороне. К кому, в конце концов, питает он дружеские чувства? Хватит уловок, хватит двуличия, пора сказать все честно и прямо, чтобы мы знали, как к нему относиться! Правда, для этого надо иметь мужество, а мужества у него… Хотите, я вам в лицо сказку, что я об игом думаю? Ну так нот: вы боитесь! Луи внушает вим страх!
Какое-то время доктор стоически выносил все эти нападки, но, когда затронутым оказывалось самолюбие, терпению приходил конец. Доктор взрывался: он краснел, заикался и кричал, брызгая слюной, что это уже ни в какие ворота не лезет, что он приходит в дом с визитом как врач, а вовсе не для того, чтобы его оскорбляли. Тут он хватал свою шляпу и бросался к дверям; отныне ищите себе другого врача! Всего хорошего!
Мизансцена напоминала некоторые наши вечерние представления, с той только разницей, что роли менялись, да и действие не достигало такого накала. Раскинув в стороны руки, мама преграждала Пелажи путь:
— Вы не пройдете!
Иногда же для пущей уверенности она успевала раньше доктора схватить его мягкую шляпу и отказывалась ее вернуть. Пелажи почему-то очень дорожил своей шляпой.
— Отдайто шляпу, черт побори! Это уж слишком, тысяча чертей! Благодарите небо за то, что вы женщина!
Да, мама была женщиной и прекрасно понимала те преимущества, которые она, как существо так называемого слабого пола, имела перед Пелажи, мужчиной галантным, позволяющим себе вольности лишь на словах и свято соблюдающим правила куртуазного обхождения.
— Можете применить ко мне физическую силу, я знаю, вы и на это способны, но я все равно не уступлю! — заявляла она с торжествующей улыбкой, ибо знала, что физической силы он не применит. — Вы не уйдете отсюда — слышите? — не уйдете, пока я не выскажу вам всю правду!
И вскоре, злясь и брызгая слюной, доктор отступал, так и не получив своей шляпы, отступал, как зверь под взглядом укротителя, не в силах бороться против маминой магнетической власти, возвращался на свое место, где с печальной покорностью получал длиннющий выговор, тон которого, впрочем, становился постепенно все мягче и переходил почти что в шепот; па этой стадии напряженной беседы мама вдруг вспоминала о моем присутствии и выдворяла меня из столовой, закрывая за мной стеклянную дверь.
Выговор бывал настолько продолжительным, что наступали сумерки, а они все сидели и сидели в столовой, забывая даже включить свет. Я говорил себе, что в эту «всю правду» наверняка входят вялость и лень. Мама была права: работая в таком темпе, доктор вряд ли мог сделать за день много визитов, и нечего ему было жаловаться на свое прозябание — как это нередко случалось в конце ужина, ибо неуклонное восхождение моего отца по служебной лестнице вызывало у него зависть, которую ему не всегда удавалось скрыть.
Наконец его отпускали, отдавали шляпу, и он уходил, пристыженный и смущенный. Было ясно, что искать другого врача нам не придется. Мама возвращалась в спальню очень довольная собой, ибо к чувству выполненного долга примешивалась и радость победы.
— Пелажи очень милый человек и очень, очень хороший врач, я не отрицаю, — говорила она, — но он безвольное существо, его необходимо время от времени встряхивать и класть в споре на обе лопатки.
Именно так с ним и поступали; думаю, что его и любили-то прежде всего за эту всем очевидную слабость. Когда он стал у нас своим человеком и ореол спасителя, которым он вначале был окружен, постепенно рассеялся, ни с кем в нашем доме, насколько я помню, не обращались так скверно, как с ним, никого так безжалостно не третировали и не мордовали — мама ужо не только отнимала у него шляпу, но даже иногда топтала со ногами, — и, несмотря на все унижения, он неизменно возвращался к паи снова и снова, как будто уже не мог без этого жить…
Так наш развод уходил понемногу в песок, если попытаться с помощью этой метафоры выразить суть двусмысленных пророчеств моей тетки Луизы, от которой в данном случае потребовали, сами понимаете, раскинуть заветную колоду. Как и прежде, тотя возникала в доме как призрак, приносила мио фигурные сласти и особенно самозабвенно предавалась созерцанию духов, что могла осуществлять теперь лишь чисто умозрительным путем, поскольку зрение у нее сильно ослабело из-за катаракты, и от этого у нее еще больше прибавилось странностей. Она уже не прикладывала руку козырьком к своим тусклым глазам и не вопрошала, возникая в дверях: «Глянь-ка, сестрица, не едет ли кто?» Теперь, то ли не замечая из-за своей полуслепоты, что я уже вырос, то ли в силу какой-то особой склонности придавая образам живых ту же застывшую неизменность, какая присуща образам умерших, она вместо приветствия декламировала мио комический монолог, который я всякий раз находил очень странным и поэтому он меня совсем но смешил:
Болтовня-то болтовня, Да нету дыма без огня! У меня кошачья лапа, На ушах большая шляпа — Не хотите ль, господа, Заглянуть ко мне сюда? В потайном своем чулане Сидит бука на диване, По углам глазами шарит, На огне чего-то жарит. Сальца маленький кусочек