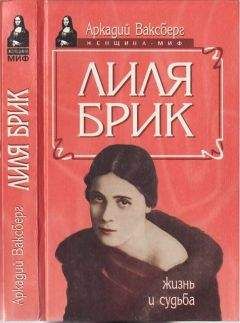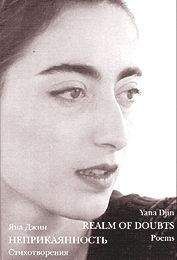Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 3 2005)
С другой стороны, большая книга стихийно росла из ее прозы, записных книжек и писем. Сама она, возможно, и думать забыла про эту книгу, но перед нами-то она мало сказать большая — великая книга, — выйдя из архива, как тридцать три богатыря из морской пучины, предстает во плоти глав, каждая из которых книга немалая: “Письма к Константину Родзевичу”, “Дыхание лирики” (тройственная переписка Цветаевой с Пастернаком и Рильке), “Несколько ударов сердца”, “Души начинают видеть” (переписка Цветаевой и Пастернака), “Сводные тетради”, “Записные книжки” в двух томах и ряд ранее неизвестных переписок.
В “Несколько ударов сердца” вошли 99 писем Цветаевой (ранее было опубликовано 61) и 44 никогда не публиковавшихся письма Гронского. Эти цифры, ласкающие глаза цветаеведов, давно жаждавшие впиться в неизвестные 38 (то есть 99 — 61) + 44 из единственной целиком сохранившейся в цветаевском архиве двухсторонней переписки, для простого смертного читателя обернулись большой книгой о любви. Именно так, а не, скажем, книгой о большой любви. Таковой любви не было, была — иная, в “мир мер” не вписывающаяся.
Рассказывая о намерениях родителей Гронского издать после его гибели в 1934 году поэтическое наследие сына, Цветаева писала конфиденту в Праге Анне Тесковой: “А лучший том — когда-нибудь — будет наша переписка, — Письма того лета . <…> Самые невинные и, м. б., самые огненные из всех Lettres d’amour”5. Что и говорить, письма действительно невинные и огненные, но “самые” они, пожалуй, по какому-то другому критерию.
Можно ли в Lettres d’amour “невинные” письма отделить от “огненных”? Операция по такому разделению — публикация только “невинных” задолго до открытия архива — привела к тому, что биографам Цветаевой худо-бедно удалось выдать этот любовный роман, который надо было бы выдумать, если бы его в цветаевской жизни не было, за “дружбу”. Дружба, чтимая Цветаевой, вообще говоря, выше любви, конечно, была, и ее крепость измерилась теми двумя годами, на которые ее отношения с Гронским продолжились после того, как прервалась любовная связь — тоже не крепкая, оказалось, но... “самая” в отношении того, что можно было бы назвать любовью при свете совести. Огненна прежде всего цветаевская правда о любви, в лицо любви высказываемая.
“Это была моя первая встреча с Вами, м. б. самая лучшая за все время, первая настоящая и — (но это м. б. закон? ) без Вас. Деревья настолько тела, что хочется обнять, настолько души, что хочется (— что хочется? не знаю, все! ) настолько души, что вот-вот обнимут. Не оторваться. Таких одухотворенных, одушевленных тел, тел-душ — я не встречала между людьми”, — едва расставшись с провожавшим ее на парижском вокзале Николаем Гронским, писала ему по прибытии на морской курорт Понтайяк Марина Ивановна, имея в виду прибрежную рощу по дороге на пляж. И — их встречи с начала 1928-го, перешедшие в апреле в тайный роман. Обидно ли было юноше услышать, что “настоящая” ихвстреча смогла произойти лишь вне его физического присутствия? По первом прочтении, может быть, и обидно, по энном, скорее всего, радостно, ибо поэтическому познанию мира сам был изрядно причастен. Недаром знакомство состоялось, когда он, начинающий стихотворец, один из немногих воспринимавший с восхищением все усложнявшуюся поэзию Цветаевой, пришел к ней на дом без приглашения, с просьбой дать ему на прочтение ее книги, к тому времени распроданные.
Можно представить, как, стремительно меняясь, читал молодой (точнее, юный — это она молодая в тридцать пять, а он юн в восемнадцать) Николай Гронский очередное письмо, прибывавшее из рога изобилия за 500 км от его чердака в парижском пригороде Бельвю. Благоговение перед чудесной силой, нацеленной прямо на него, прочитывается в точке, которую он вместо восклицательного знака (на русский манер) или запятой (на манер французский) ставит после приветственного обращения: “Дорогая Марина Ивановна . ”, со временем: “Дорогая Марина . ” Не этой ли красноречивой точке улыбается его адресат на морском берегу? Должно быть, еще и тому, что следовало за точкой. Почерк его неразборчив, и она не раз жалуется, что не все в письме смогла разобрать, но, надеюсь, не только мы, но и она прочла: “А забыть Вас не забуду — разве забывают ласки орлов (-лиц), ведь и они любят, и как еще. Хищные в воздухе — бурные и ласкающие в гнезде”… Это из самых первых писем Гронского, потом будет приходить меньше красочных метафор, больше нежного прямоговорения, допишется до простоты любви.
Не был ли он, однако, лишь своеобразным вундеркиндом любви? Цветаева так не думала. В день его девятнадцатилетия она его поздравляет “с уже-судьбой, сущностью” и дарит ему оборванную на середине поговорку “si jeunesse savait”6 с поправкой: “Ваша — SAIT7”. Одно из его поздних писем она целует уже и почтительно, по ее признанию, как целуют руку: “Я была залита восхищением. Тбак нужно писать — письма, стихи, всё. Тбак нужно глядеть и понимать”. А писал он всего лишь про то, как она входит в его комнату и как выходит, — не про свои чувства, а подробно описывал, “прочитывал” ее движения, так что его сущность поэта была налицо.
“Не люблю моря. Сознаю всю огромность явления и не люблю. В который раз не люблю. (Как любовь, за которую душу отдам! И отдаю.)” — это парадоксы цветаевского эроса продолжают прибывать по почте к Гронскому. Ее нелюбовь любви, той любви, которую она именовала иногда тавтологически “любовной любовью”, — непременная тема переписки и с Пастернаком, Рильке, Тесковой и другими. Отношения полов для Цветаевой приобрели неразрешимость антропологического тупика, создавшегося в процессе эволюции Homo sapiens . Трещину между душой и телом в эросе человека культуры безмерная душа Цветаевой расширила до пропасти. Проблематична для нее не только физиология пола, особенно “непросветленный пол”, “пол, не знающий ходу к другому”, отвращение к чему она позже подчеркнет в письмах к Гронскому, но и психология “любовной любви”. Безмерная душа в каждый миг охватывает весь мир, а в любовной связи упирается в одного человека. Но разве не в переходе через границу “другого”=“ты” в бесконечный мир и, таким образом, в выходе из пола, тела, из времени и пространства — смысл любви? Через равносущего — да, но равносущность для Цветаевой — данное, а не результат решения той задачи, чтбо есть любовь.
Даже с равносущим лучше всего ей быть на расстоянии, то есть в переписке, поскольку письменное слово точнее, чем говорящее, проявит равносущность. “Слово — вторая плоть человека”8 и куда более близкая, чем первая, по цветаевской онтологии. Но и в переписке с равносущим возникает для нее дурная бесконечность любви — ее знаменитое письмо к Рильке о любви, “самой себя уничтожающей”9, произносит смертный приговор “любви во времени”. Для нее остается лишь любовь вне времени — когда связь осуществляется через память, сон, искусство (прежде всего поэзию), “тетрадь”, природу. Вот почему “настоящая встреча” с Гронским у нее произошла через “одухотворенные, одушевленные тела, тела-души ” деревьев, в которых она узнала и его, и себя. Время из любви она изгоняет пространством: “Встреча должна быть аркой. Не в упор (кто кого?), не две дороги вдоль (перекресток, чтоб вновь разойтись <…> а радугой. Арка: увечнённая встреча. Не встретились, а непрерывно встречаются. Вечность в настоящем времени”10. “Увечнённая встреча” — не перебор ли? Это аскеза ее слова. “Письмо не слова, а голос. (Слова мы подставляем.)”11 Цветаевские письма словесно дисциплинированы не меньше стихов. Как и дневниковая запись. Здесь тоже голос (обращенный к себе самой) и слово подчиняются дисциплине некоего священного брака, верны друг другу в радости и горе, в экзальтации и тоске, в чувстве и мысли (а если “верность” нарушена, следует приказ: “Додумать”).
Если не любит любовь, почему тогда готова за нее душу отдать, как пишет Гронскому?
Метафизика пола, сформировавшаяся в Цветаевой к ее тридцатилетию и продиктовавшая немалую долю ее стихов и поэм 20-х, не совпадает полностью с той, что раскрывается Цветаевой в литературе существования. Так, собственно, и должно быть в случае, когда поэтическое творчество не задает вопросы, а дает ответы. Цветаева объясняет Гронскому: “Толстой обратное Пушкину: Толстой искал, Пушкин — находил . Толстой обратное ПОЭТУ. Поэт может искать только рифмы, никак не смысла жизни, который — в нем дан . Искать формы ответа”. На “жизненном этапе”, однако, в той же переписке или записной книжке Цветаева вопросы задает и ответы дает порой не те, что в поэзии.