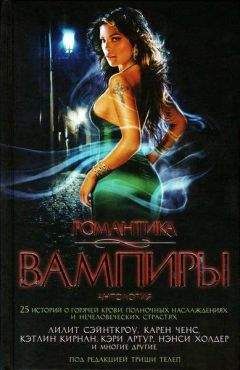РИЧАРД ФЛАНАГАН - КНИГА РЫБ ГОУЛДА
Зелёный цвет — цвет плодородия и новой жизни, бессмертия и воскрешения праведников. В искусстве он означает надежду и радость. У греков и мавров это цвет победы. В христианстве — цвет Божьей милости, щедрости, восстания из мёртвых. Среди планет это Венера. Запах же свиного дерьма, злокозненное всемогущество зависти и вызванные опием галлюцинации для меня с тех пор навсегда стали бирюзовыми.
Мои глаза остановились на её животе, и, пожелав узнать, который из демонов в ответе за него, я, когда она повернулась, чтобы уйти, произнёс только одно слово.
— Мойни? — спросил я.
— Коббер, — ответствовала она, что означало «дружок».
VI
Вы думаете, я был только невинной жертвой? Мне хотелось крикнуть, — когда она собралась уйти и трижды постучала в дверь, чтобы пришёл Побджой и отпер её, — что я также и преступник. Или, вы думаете, я никогда не лгал, чтобы уберечь свою спину от кнута? Никогда не крал у товарищей? Я питаю слабость к голубоватому джину, пожилым женщинам, белому рому, юным девочкам, портеру, писко, доброй компании, а также Комендантовой настойке опия. И я очень боюсь боли. Я не знаю, что такое стыд. Вы думаете, я никогда не доносил на своих знакомцев? Я был сразу и другом, и ябедой; я и любил их, и даже плакал, когда их уводили на экзекуцию, чтобы спустить им кожу лохмотьями из-за моего лжесвидетельства. Я старался выжить. Я был жесток и безжалостен, как плеть-девятихвостка, эта «кошка», сдиравшая своими когтями кожу с их спин, когда продавал человеческие души за скудную пайку и немного краски. Я разбазарил всё, в чём действительно нуждался. Я был гнусным куском тюремного дерьма. Я знал запах своих сокамерников. Я ведал горький вкус их пропавших жизней. Я был вонючий таракан. Грязная вошь, способная лишь вызывать зуд. Сама Австралия. Я появился на свет уже мёртвым. Я был крысою, сожравшей потомство. И Марией Магдалиной. Иисусом. Грешником. Святым. Я был сама плоть, и зов плоти, и праздник плоти; смерть и любовь равноценны и одинаково прекрасны в моих глазах. Я клал к себе на колени головы забитых до смерти, умирающих людей, целовал их воспалившиеся раны. Я омывал их худые изъязвлённые ноги, омывал истекающие гноем фурункулы. Я и был тот гной. Я был призрак. Я был Бог, неисповедимый и непознаваемый даже для самого себя. О, как Я ненавидел себя за это. Как Мне хотелось испытать ту вселенную, которую Я так обожал и которую, разумеется, тоже вобрал в себя, и до чего же Я жаждал понять, почему вышло так, что в Моих снах Я проплывал океаны насквозь, и отчего, просыпаясь, Я был землёю, пахнущей свежевырезанным бруском торфа. Ни один человек не мог откликнуться на Мои яростные сетования, ни единой душе не суждено было услышать и оценить Моих шуток, объясняющих, почему Я всё ещё влачу свою жизнь. Я был Бог, и Я был гной, но кем бы Я ни был, Я был всеми Вами, и Вы были святы вместе со Мной, так же как Ваши ноги и Ваши кишки, Ваши внутренности и Ваши ягодицы, Ваши подмышки и Ваши запахи, речь Ваша и Ваша способность ощущать языком вкус, Ваша падшая красота. Я обожествил Ваш образ, и Я был Вами, и Я более не был чрезмерно велик для этой огромной земли, и Я не могу понять, почему никак не найти слов, чтобы рассказать, как больно и как мучительно было Мне пробормотать слово «прощай»?
Рыба восьмая
Полосатый кузовок
Сосцы миссис Готлибсен — Рассказ о других удивительных явлениях — Салли Дешёвка и её круги — Почему так трепыхалась полосатая рыба-кузовок — Загадочное бедствие — Обнаружение Регистратуры — Изобретение Старого Викинга — Фатальное противостояние — Литература как орудие убийства — Бесконечное размножение голов Доктора — Загадка разъясняется
I
Теперь я вижу, что, увлёкшись рассказом о себе, поставил телегу впереди лошади, тогда как миссис Готлибсен уже давно ждёт случая появиться на страницах моего повествования, взнузданной по всем правилам, и умчать меня к роковому пределу.
Если у читателя создалось впечатление, что Вилли Гоулд — когда он ещё не был изобличён как Губитель Просвещения и преспокойно рисовал рыб в докторском коттедже — всегда оставался верным Салли Дешёвке, то читатель сразу и прав, и не прав. Ибо вскоре она спуталась с Мушею Пугом, а Вилли Гоулда представили прибывшей на Сара-Айленд миссис Готлибсен, супруге пастора Готлибсена; то были пассажиры шлюпа, который по дороге в Сидней зашёл ненадолго в бухту Маккуори.
Мистер Лемприер буквально замучил приезжих своим гостеприимством — даже предоставил в их распоряжение весь дом свой, а сам уехал на реку Гордон, чтобы навестить работающих там каторжан. Мне было отдано распоряжение исполнять обязанности лакея, отложив на время рисование рыб.
Пастор Готлибсен был угрюмый, чопорный субъект, не лишённый той самоуверенности, коя у иных людей берётся непонятно откуда и совсем не обременяет их необходимостью иногда думать, и уже за одно это я невзлюбил его. Ум пастора узостью походил на горлышко бутылки; сам он почитал себя ценителем прекрасного, эдаким поэтом Озёрной школы, и я заинтересовал его как художник и преступник в одном лице. О том, что подобное сочетание интригует, он сообщил мне в первый же вечер, когда я прислуживал за столом; ему хотелось знать, как подобные противоположности могут — или должны? — уживаться под одной, так сказать, крышей или зонтом единой души.
Если бы меня спросили, я бы ответил, что этот зонтик совсем рваный, что крыша течёт и лишь совсем глупый человек стал бы искать убежища под ними по доброй воле, но пастор Готлибсен меня ничего не спрашивал, так что я попридержал язык, только уверил его, что, будучи мужчиной в самом расцвете лет, он может представить себе кое-что и похуже искусства.
— Почему ты занялся живописью? — осведомился он и, не успел я сказать, что это всё-таки лучше, чем подвергнуться в тёмном лесу нападению оравы содомитов, всё объяснил себе сам: — Потому что ты должен отыскать красоту в здешнем краю антиподов. Ибо в сердце даже самого отъявленного… — тут он сделал паузу, как бы задумавшись и тем самым давая мне возможность внутренне согласиться с его выводом, начало коего прозвучало весьма банально, — теплится надежда, что Господь просветит его посредством Природы, которая и есть Высшее Искусство.
— А нельзя ли попросить у вас огня? Может, у вас найдётся огниво? — обратился я к пастору.
Тот вздрогнул и закрутил головою из стороны в сторону, поражённый собственной проницательностью. Он буквально затрясся в экзальтации, оттого что угадал во мне душу, стремящуюся к свету.
— Для моей трубки, — добавил я. — Мистер Лемприер не возражает.
Но пастор, похоже, уже не слушал. Он протянул мне свечу, и я принял её, как вполне приемлемую замену, наряду с его утверждением, будто склонность к преступным деяниям возникает из-за отсутствия равновесия между соками организма, что вполне можно поправить, если подобных мне сызмальства подвешивать вниз головою на несколько часов в день в течение ряда лет, ибо подобное лечение оказывает весьма благотворное воздействие.
Может, мой конец и был бы другим, когда бы меня в детстве оставляли висеть вниз головою, кто знает, может, от этого я бы действительно стал лучше. Но теперь я страдал сильнее, чем когда-либо в своей жизни — а на мою долю выпало немало всяческих унижений, — и сейчас это вовсе не способствовало моему исправлению; нынешний мой жестокий удел был куда горше, чем если бы меня крепко связали и оставили болтаться подвешенным за ноги.
На второй день пребывания в докторском доме дорогих гостей я во время обеда подал к столу графин с самым лучшим мартиникским ромом — разведённым водой в соответствии с инструкциями Доктора, — и уже после нескольких рюмок миссис Готлибсен положила свою руку на мою. Она рассказала, что её муж видел некоторые мои работы и считает меня несомненным сенсуалистом, чему виною всё то же нарушенное равновесие жизненных соков, а также полагает, что мне свойственна чувственность. При этих словах она поднесла мою руку к губам своим и, поглаживая, нежно поцеловала, после чего спросила, не соглашусь ли я овладеть ею, в то время как пастор Готлибсен станет смотреть на нас с некоторого расстояния. За это она предложила мне шесть унций лучшего табаку. Я отвечал, что за шесть унций пастор Готлибсен может подойти так близко, как пожелает, но миссис Готлибсен, кажется, было всё равно.
Она попросила, чтобы я завязал ей глаза и бечёвкой прикрутил запястья к спинке кровати. За шесть унций я счёл себя просто обязанным показать ей лучшие свои па, так что, станцевав для начала скромный голландский натюрморт, мы принялись затем отплясывать лихую джигу в стиле эпохи Просвещения, и тогда она пришла в дикий восторг и принялась кричать — громче и громче, и всё это было в высшей степени великолепно для неё, однако не так уж чудесно для меня, ибо мой голландский живописец, как оказалось, не имел достаточно богатой палитры, с которой мог бы черпать новые и новые краски для своего искусства.