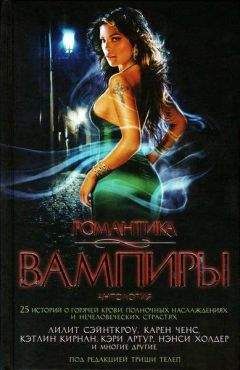РИЧАРД ФЛАНАГАН - КНИГА РЫБ ГОУЛДА
Если бы я попробовал угадать мотивы Йоргена Йоргенсена — ревность к моему предполагаемому влиянию на Коменданта или, скажем, желание чиновника-бюрократа присовокупить к каждой причине следствие и к каждому преступлению наказание, причём самым незатейливым образом, — всё это оказалось бы вымыслом, литературщиной, потому что в реальной жизни действия людей не имеют никаких объяснений. Такова была его природа, вот и всё — природа акулы-пилоноса.
Позднее я понял — увы, слишком поздно, — что Йоргена Йоргенсена, как и Коменданта, всю жизнь мучило чувство, будто он что-то делает не так. В юности он прочёл чересчур много книг и в шестнадцать лет, вдохновлённый историями о любви и приключениях, отважился покинуть родной Копенгаген, для того чтобы обнаружить: настоящий мир не похож на книжный.
В реальности всё расползалось по швам, ни на что нельзя было положиться. Мыльный пузырь да и только. Книги всегда оставались твёрдыми — реальное же время утекало как вода. В книгах всегда имелись причины и следствия — жизнь представляла собой невыразимый хаос. В настоящем мире ничто не было таким, как в книгах, и это заронило в его душу глухую обиду, которая в итоге вылилась в желание мстить.
Ничто не могло удержаться на месте, когда шторма швыряли вверх-вниз английский угольщик, где он принуждён был служить по контракту, деля завшивленную подвесную койку-гамак с другим матросом, которого пыл страсти и зыбкая темнота нижней палубы вдруг превратили в женщину, едва Йорген коснулся его дрожащей рукой, провёл ею вдоль тела. Ничто не держалось и в его карманах, в особенности когда он садился за карты во время редких заходов в порты. Игра неизменно оставляла его без денег и в то же время порождала сильнейшую нужду в них, которую можно было утолить лишь посредством изощрённой изобретательности: он выдумывал всевозможные россказни — лживые, разумеется, — а затем обменивал их на кредит или наличные, чтобы следующим вечером снова сесть за игорный стол. Он начал сплетником, втирающимся в доверие с помощью клеветы, а закончил шпионом, предостерегавшим агентов различных правительств от всевозможных напастей.
Он обнаружил, что его способность изобретать мир заново, переиначивая его на собственный лад, сравнима лишь со способностью мира к саморазрушению. В этом, по его словам, он держался одного мнения с Эразмом Роттердамским. «Реальность вещей, — говаривал он, цитируя сего любившего постранствовать голландца, — зависит исключительно от вашего мнения». Он полагал, что весь опыт его жизни подтверждает сие высказывание. И действительно, когда всё вокруг отказались ему верить и он сильно упал во мнении окружающего общества, дела его пошли из рук вон плохо: Йоргена избили, заключили в тюрьму и, наконец, сослали — а всё из-за того, что у заимодавцев возникло нелепое мнение, будто он не чтит долги. «Есть слова, — заявил он со скамьи подсудимых в надежде склонить на свою сторону суд, если уж не побасёнками, так философскими разглагольствованиями, — и есть вещи, и сойтись им не дано», что далеко от правды, и он знал это. Ибо обладал умением овеществлять слова — то был его дар, то было его проклятье.
Он испытывал жестокую ностальгию по реализму и, вдохновлённый примером величайшего романтика сего века, начал собственную великую революцию, в возрасте всего двадцати шести лет сместив в Исландии беззащитного датского губернатора с помощью команды английского капера: шестерых вооружённых матросов он послал в обход губернаторского дома в Рейкьявике, а ещё шесть построил в колонну и маршевым шагом повёл в лобовую атаку, чем нарушил послеобеденный сон бедняги, коим тот наслаждался на любимом диване, и арестовал его. Затем он поднял на флагштоке древний стяг свободной Исландии, издал прокламацию, объявляющую, что люд Исландии, устав от прежней покорности датскому игу, единогласно призвал его, дабы возглавить новое, народное правительство. После сего происшествия он неизменно предпочитал титуловать себя королём Исландии, хотя англичане и свергли его уже через неделю.
Он прибыл на поле битвы при Ватерлоо спустя день после того, как закончилось великое сражение за будущее Европы с человеком, чья звезда недавно ещё восходила; верно, сам гений-хранитель Йоргена судил своему незадачливому подопечному прибыть слишком поздно и не туда, куда надо, а потому тот сделал вывод, что самою судьбой ему уготовано стать журналистом, хотя его донесение с поля битвы (в основном составленное путём заимствования сведений из газет) пользовалось не слишком большим успехом у лондонских разносчиков уличных листков и дешёвых брошюрок в голодную зиму 1816 года. Как бы то ни было, его вскоре арестовали, приняв за переодетого французского солдата, пытающегося скрыться, и ему удалось вновь обрести свободу лишь ценой взятки: он подкупил часового-гвардейца полевою подзорной трубой, недавно найденной им на теле убитого английского офицера.
Йорген Йоргенсен был прирождённый рассказчик, а говорит он правду или лжёт, представлялось неважным всем, а ему самому и подавно, ибо такое уж ему выпало ремесло, такое призвание; он был подлинный мастер рассказов, истинный коммивояжёр по их части, путешественник в стране вымыслов. В своих историях он представал героем-повествователем французских плутовских романов, кои были столь популярны в прошлом столетии у горничных и лакеев и кои сам он любил настолько, что мистер Лемприер звал его за глаза Жозеф Жозефсон.
Лицо его окрашивала нездоровая желтизна, светлые волосы напоминали паклю; нос был длинный и заострённый; длинные же усы его нависали над верхней губой и капельки жира жемчужинами оседали на жиденьких кустиках волос, когда он ел суп. Когда-то давно, ещё до прибытия лейтенанта Хораса, Йорген Йоргенсен был прислан на Сара-Айленд исполнять обязанности Интенданта, то есть как бы заведовать казёнными складами, а на самом деле служить верой и правдой губернатору Артуру, шпионить и доносить обо всех интригах, кои могут плестись в этом отдалённейшем уголке тогда ещё не слишком обширной державы сего ван-дименского владыки. Однако с появлением на сцене лейтенанта Хораса Старый Викинг осознал всю ограниченность прежнего своего амплуа.
Позже, когда совместные труды связали этих двоих крепче, нежели могла бы соединить даже совместно пролитая чужая кровь, поговаривали, что именно конспираторские таланты, сиречь навыки шпика, прежде всего обратили внимание Коменданта на Йоргена Йоргенсена, а также способность последнего мгновенно угадывать, что именно угодно слышать хозяину острова, и тут же придумывать желаемое. Вполне может статься, Йорген Йоргенсен считал необходимым посредством этих историй войти в доверие к Коменданту, но возможно и такое, что в тот далёкий уже день, когда ему было поручено вести хроники острова, он разглядел в Коменданте человека, способного исполнить давнее, долго подавлявшееся им желание предать этот мир ещё основательнее, чем сей мир некогда предал его, отказавшись стать ещё одной книгой. В Коменданте он угадал ту маниакальную готовность к сотворчеству, которая создаёт идеального слушателя, и абсолютное желание верить рассказчику любой ценой.
Продолжая держать перед собой голову Вольтера так, словно то был череп Йорика, Йорген Йоргенсен сообщил мне своим необычным голосом — таким же аффектированным и жеманным, как его чрезмерно красивый и округлый «итальянизированный» почерк, — что более никак нельзя списывать исчезновение мистера Лемприера на смерть от несчастного случая. И раз уж по воле обстоятельств человек устроен так, что не может не проявлять звериную природу свою, то эти проявления должны быть наказаны. Родственники мистера Лемприера не удовлетворятся ничем иным, и Коменданту вовсе не нужно, чтобы власти в Хобарте затеяли официальное расследование и прислали кого-нибудь совать нос в здешние дела, — особенно если принять во внимание характер его нынешних торговых сделок и политические амбиции. И вообще, Комендант распорядится предать меня особо медленной и мучительной смерти за кражу его любимого одеколона, если ему будет доложено о совершённой мной краже. С другой стороны, он, Йорген Йоргенсен, предоставляет мне замечательную возможность оказать услугу своему народу и самому себе. Тут он сделал паузу и довольно непристойно провёл языком по клочковатым усам, напоминающим акульи зубы, после чего продолжил. Он соглашался, по его словам, облегчить и ускорить мой переход в иной мир, добившись для меня повешения; для этого требовалось всего-навсего подписать признание в убийстве мистера Лемприера.
На сие я со всей решительностью, какую только сумел изобразить, заявил, что бутылку с одеколоном продал мне констебль Муша Пуг, ещё в бытность его помощником кладовщика в Интендантстве — при этом, помнится, похвалялся, будто украл её, дабы снискать благосклонность Мулатки, горничной Коменданта, — а потому я никак не могу подписать признание.