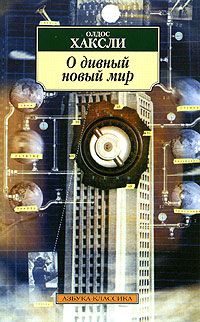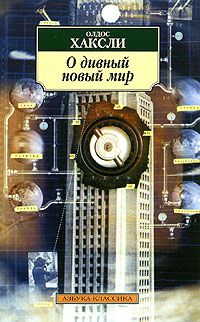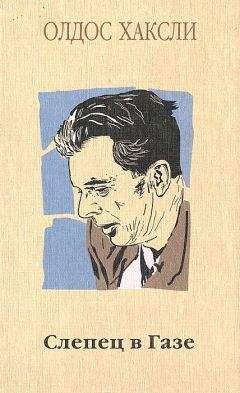Габриэль Маркес - Жить, чтобы рассказывать о жизни
— Что, обосрался? — спросил он со счастливым презрением. — Тебе нужно было подумать об этом, прежде чем приходить.
Я мог сказать ему, что мачо тоже делают в штаны, но я отдавал себе отчет, что мне не хватит яиц для брутально-фатальных шуток. Тем временем он открыл барабан револьвера, вытащил единственный патрон и поставил его на стол, он был пуст. Вместо чувства облегчения я испытал ужасное унижение.
Мелкий дождик стал стихать в начале четвертого. Мы оба были настолько изнурены напряжением, что я не помню момента, когда он дал мне знак одеться, и я подчинился со скорбной торжественностью. Только когда я опять сел, то заметил, что он плачет. Навзрыд и без всякого стеснения, выставляя напоказ свои слезы. В конце концов он вытер их тыльной стороной руки, высморкался с помощью пальцев и поднялся.
— Знаешь, почему я оставил тебя в живых? — спросил он меня. И ответил сам себе: — Потому что твой папа был единственным, кто смог вылечить мой застарелый триппер, с которым никто ничего не мог поделать целых десять лет.
Отвесив мне увесистый тумак в спину, он вытолкал меня на улицу. Дождик не прекращался, и все было пропитано влагой настолько, что я стоял по колено в воде в полном ступоре от того, что остался в живых.
Не знаю, как моя мать проведала о стычке, но в последующие дни она приложила все усилия к тому, чтобы я ни в коем случае не выходил из дома по ночам. Но использовала она, как и с отцом, нехитрые, совсем неэффективные и ни к чему не приводящие методы. Искала признаки того, что я раздевался где-то вне дома, обнаруживала следы помады и запахи духов там, где их не было, готовила мне тяжелую пищу перед выходом на улицу из распространенного предрассудка, что мужчины — ни ее супруг, ни ее сыновья — не осмелятся заниматься любовью под угрозой пищеварительного обморока. Наконец, когда у нее не осталось больше предлогов, чтобы меня удержать, она села напротив и сказала:
— Говорят, что ты спутался с женой полицейского и тот поклялся, что застрелит тебя из ружья.
Мне удалось убедить ее, что это не так, но слухи продолжали распространяться. Колдунья подавала мне знаки, что она одна, что муж отправился на задание, что его уже и след простыл. Я всегда делал все возможное, чтобы не встречаться с ним, но он торопился поздороваться со мной издали взмахом руки, который можно было расценить и как знак примирения, и как угрозу. Во время каникул на следующий год я видел его в последний раз на танцевальном вечере фанданго, где он предложил мне глоток крепчайшего рома, от которого я не осмелился отказаться.
Не знаю уж, благодаря какому искусному фокусу учителя и одноклассники, которые всегда видели во мне замкнутого и невеселого ученика, узрели рискового поэта, унаследовавшего дух вольнодумства, царивший в эпоху Карлоса Мартина. И не для того ли, чтобы больше соответствовать этому образу, я начал курить в лицее в возрасте пятнадцати лет? Первая затяжка была ужасной. Я провел полночи, агонизируя в собственной блевотине на полу в ванной. Я встретил рассвет изнуренным, но табачное похмелье, вместо того чтобы оттолкнуть меня, вызвало во мне непреодолимое желание продолжить курить. Так началась моя жизнь заядлого курильщика, притом вплоть до того, что я не мог написать ни одной фразы без наполненного дымом рта. В лицее разрешалось курить только на переменах но я отпрашивался в туалет по два-три раза на каждом уроке только для того, чтобы утолить необузданное желание покурить. Так я пришел к трем пачкам сигарет в сутки и переходил к четырем — в зависимости от того, насколько бурными выдавались вечер и ночь. Одно время, уже после колледжа, я сходил с ума от сухости в горле и ломоты в костях. Я решил бросить, но не выдержал больше двух дней, не находя себе места.
Не знаю, действительно ли я предпринял первую пробу пера в прозе благодаря заданиям преподавателя Кальдерона, каждый раз все более сложным, и книгам по теории литературы, которые он обязывал меня прочесть. Сегодня, вновь мысленно проходя по дороге своей жизни, я вспоминаю, что мое понимание истории, рассказа было первично вопреки всему, что я прочитал, начиная с первого потрясения «Тысячью и одной ночью». До тех пор пока я не осмелился подумать, что чудеса, про которые рассказывала Шахерезада, происходили взаправду в обычной жизни того времени и перестали происходить из-за неверия и малодушия последующих поколений, мне казалось невозможным, что кто-то в наше время способен вновь поверить в то, что можно летать над городами и горами на ковре-самолете или что какой-нибудь раб из Картахены-де-Индиас прожил двести лет заключенным в бутылку.
Мне наскучили все занятия за исключением уроков по литературе — их я знал наизусть, и они имели абсолютный приоритет. Мне надоело учиться, и я оставил все на милость судьбы. У меня был особый инстинкт чувствовать кульминационные точки предметов, благодаря которому я интуитивно предугадывал, что именно могут спросить учителя, и не учил остальное. Я и в самом деле не понимал, почему должен отдавать свой талант и время предметам, которые меня нисколько не волнуют и поэтому никогда не пригодятся именно в моей, а не чьей-то жизни.
Я имел смелость полагать, что большинство учителей меня больше ценили за мой образ жизни, чем за экзамены. Меня спасали мои неожиданные ответы, мои безумные идеи, мои иррациональные выдумки. Все же, заканчивая пятый курс, увидев перед собой академические препятствия, которые не чувствовал себя способным преодолеть, я осознал свои границы. Степень бакалавра была для меня дорогой, вымощенной чудесами, но сердце предчувствовало, что в конце пятого года меня ждет непреодолимая стена. Правда без прикрас заключалась в том, что мне уже недоставало воли, призвания, упорства, последовательности, денег и знания орфографии, чтобы ввязаться в академическую карьеру. Нет, лучше сказать: годы летели, а у меня не рождалось ни одной идеи по поводу того, что делать со своей жизнью. Так я провел еще много времени, прежде чем осознал, что все эти годы шел верным курсом, потому что ничто ни в этом мире, ни в ином не может быть бесполезным для писателя.
Также не улучшалась и ситуация в стране. Преследуемый свирепой оппозицией реакционных консерваторов, 31 июля 1945 года Альфонсо Лопес Пумарехо отрекся от поста президента республики. Его сменил Альберто Льерас Камарго, выдвинутый конгрессом завершить последний год президентского правления. Начиная с его вступительной речи, с его успокаивающих интонаций и высокого стиля, Льерас приступил к иллюзорной задаче умерить пыл и волнения в стране перед избранием нового главы.
Посредством его светлости Лопеса Льераса, двоюродного брата нового президента, ректор лицея добился специальной аудиенции, чтобы выхлопотать государственную поддержку для учебной экскурсии на Атлантическое побережье.
Я не имею представления, почему ректор выбрал именно меня сопровождать его на аудиенцию — при условии, что я хоть немного приведу в порядок взлохмаченную шевелюру и безумные усы. Другими приглашенными были Гильермо Лопес Герра, знакомый президента, и Альваро Руис Торрес, племянник Лауры Виктории, известной поэтессы, пишущей на смелые темы и принадлежащей к поколению «новых», к которому относился и Льерас Камарго. У меня не было альтернативы, так что субботним вечером, пока Гильермо Гранадос читал в дормитории роман, который не интересовал меня никоим образом, третьекурсник — ученик парикмахера оболванил меня, как новобранца, и подрезал мои пышные усы. Остаток недели я выносил насмешки интернов и экстернов над моим новым стилем. Одна лишь мысль о том, чтобы войти в президентский дворец, леденила мне кровь в жилах, но это оказалось заблуждением моей души, потому что единственным знаком таинства власти, встреченным нами там, была неземная тишина. После недолгого ожидания в прихожей, до пола завешанной гобеленами и портьерами, офицер в униформе провел нас в кабинет президента.
Льерас Камарго имел мало общего со своими портретами. На меня произвели впечатление его треугольный торс в безупречном костюме из английского габардина, выступающие скулы, пергаментная бледность, зубы озорного ребенка, бывшие отрадой карикатуристов, неторопливость жестов и манера подавать руку, глядя прямо в глаза. Я не помню своих прежних мыслей насчет того, какими бывают президенты, но мне показалось, что все такие, как он. Со временем, когда узнал его лучше, я понял, что он, возможно, так и не признался себе в том, что был прежде всего заблудившимся писателем.
Выслушав слова ректора с подчеркнутым вниманием, он сделал несколько уместных замечаний, но ничего не ответил, пока не выслушал еще и трех студентов. Выслушал с таким же вниманием, и нам польстило, что с нами обращались с тем же почтением и той же симпатией, с какими он обращался к ректору. Ему хватило двух последних минут аудиенции, чтобы мы уверились, что он глубже разбирался в поэзии, чем в речной навигации, и, без сомнения, она его интересовала больше.