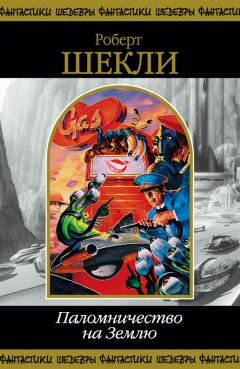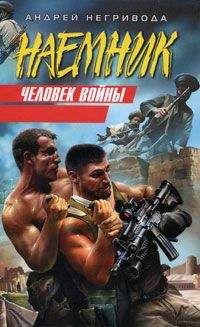Наш человек в горячей точке - Перишич Роберт
После окончания передачи все как-то спонтанно дистанцировались от меня, только Ичо Камера в своем мрачном джемпере подошел ко мне и сказал: — Вижу, малый, ты становишься популярным. Помню я тебя, помню…
— Я становлюсь антипопулярным, — сказал я Ичо. — Я вас тоже помню.
— Всё это один хрен: популярный, антипопулярный… — сказал Ичо.
— А вы? — спросил я из вежливости. — Часто бываете в Загребе?
— Да я отдал своё поле сыновьям, пусть занимаются, — сказал он. — А сам понемножку торгую тут, на Долце, и понемножку хлопаю, сидя в публике. Моё место не в глуши, а здесь, здесь центр всего. Что мне в глуши делать?
— A-а, э-э, — сказал я.
— Ну а у нас-то там что? Только «Свободная Далмация»… и иногда какой-нибудь матч.
Я слушал его с некоторым удивлением. Ичо Камера говорил так же, как говорит молодежь, которая не хочет прозябать всю жизнь в какой-нибудь дыре. Ему хочется быть в мувинге, там, где центр всего. Знай он английский, наверняка уехал бы в Нью-Йорк. Была у него эта болезнь — не мог жить без СМИ, да и духом он был молод, что, вероятно, одно и то же.
Не будь он деревенщиной, подумал я, никто бы и не заподозрил, что он чокнутый.
К нам подошел Перо Главный.
Сначала он обратился к Ичо и пожал ему руку: — Уважаемый, хочу, чтоб вы знали… Поддержка для нас значит очень много.
— Я человек маленький, но я должен был отреагировать, — сказал Ичо Камера.
Потом Главный повернулся ко мне: — Хозяин меня сейчас звал к себе, — сказал он.
— И?
— Ты уволен.
— Твою мать, — сказал я. — А я как раз собирался взять кредит.
Перо посмотрел на меня так, будто пытался понять, в своем ли я уме, а потом, должно быть, решил, что не его это дело. — Я к этому отношения не имею, но думаю, что тебе ещё и предъявят обвинение, — сказал он.
— Передай этому говнюку, что мне полагается выходное пособие!
— Думаю, у тебя нет шансов, — сказал Перо.
— Неужели? Давай, спроси этого теннисиста, чем он занимался, когда другие создавали имидж этого еженедельника, боролись за демократию и… — Я замолк, понимая, что выступаю как патетичный ветеран. А потом добавил: — Передай говнюку, что сейчас, когда у меня есть время, я что-нибудь напишу о нём как личности и его деятельности!
— Не сходи с ума! — сказал Перо.
— Ладно, давай проваливай!
— Ну… ну этак не годится! — сказал Ичо Камера.
Перо ещё раз пожал ему руку, смущенно, как будто успокаивая его, что-то пробормотал и исчез в лабиринте телевизионных коридоров.
— Некрасиво, совсем некрасиво с их стороны, — говорил Ичо Камера, пока мы шли в направлении телевизионного кафе. — Вот так вот увольнять людей… Вот так человека на улицу…
Я вздохнул.
— Это повысит мотивацию у остальных, — сказал я.
— Да-а-а… Поэтому я никогда и не устраивался на работу, — продолжил Ичо. — Только сельское хозяйство и чуток на телевидении… Сам себе господин!
— Нормально.
Пока я с Ичо выпивал на телевидении, в том кафе, где у виски был металлический привкус, позвонила Саня, грустным голосом. У неё три минуты до возвращения на сцену, там у неё были такие паузы в спектакле, когда она находится за кулисами, и она в театральном кафе видела начало передачи и немного под конец. Это не было слишком плохо, сказала она и вздохнула. Она не знала, как меня приободрить, а я не знал, как её. Это скоро забудется, любой скандал актуален три дня, сказала она грустно. Ага, говорил я, ага. Иди, отыграй своё, не думай сейчас об этом, сказал я.
Потом я пошел в «Лимитед». Все пялились на меня. Маркатович подошел утешить меня рассказами про то, что ему ещё хуже. Акции прославленного Ри-банка продолжали падать.
— Я из надежного источника слышал информацию, что немцы уходят. Предлагают банк правительству, за одну куну, — сказал он.
На другом фланге — Диана ушла и не отвечает на звонки.
— Но зато сегодня звонил Долина, — сказал Маркатович, который ещё и не брался за подготовку его избирательной кампании… — Долина разъярен.
Кроме того, сказал он, Долина добавил, что видел меня по телевизору и что я ему не подхожу для имиджа. Пусть Маркатович найдет кого-нибудь другого, сказал он ему.
— Он заявил, что ты «сконпромитирован», — сказал Маркатович, изображая Долину и пытаясь, чтобы это прозвучало как прикол.
У меня не было сил на улыбку, и Маркатович, посмотрев на меня гипнотически, произнес: — Будь уверен, этот твой шутник вернется живым и здоровым!
— Откуда ты знаешь?
— Просто знаю и всё. Когда речь идет о других, не обо мне, я умею оценивать ситуацию…
— Это у тебя от наркоты, — сказал я.
— Да нет же. У меня всегда так, если дело касается кого-то другого. Вот взять, к примеру, эти мои акции, если бы они принадлежали кому-то другому, моя оценка ситуации была бы безошибочной! Он вернется, спорим?
— Не надо, ты уже много раз спорил.
Потом Маркатович заговорил о своём старике, которого он взял на работу, а тот сразу запил. — Должно быть, чувствует себя униженным, — сказал он. — Всё время такой язвительный. Видимо, в его воображении я представитель капитализма… Каждый раз, когда ему что-нибудь говорю, он мне и-ро-нич-но отвечает: «да, шеф».
Маркатович считает, что с Борисом тот же случай и что вся история умышленно подстроена…
— Мы для них — на другой стороне… В их глазах мы успешны, и кто-то должен быть виноват, если с ними что-то не так, — сказал Маркатович. — У них нет политической программы, и они гадят нам и нашим семьям.
Выпивали мы до самого закрытия, а потом пошли к нему. Пусть Маркатович всё потерял, но пустая квартира у него была.
Он приглашал и каких-то девушек, но они не захотели.
Я послал Сане сообщение, что иду к Маркатовичу и что, может быть, там переночую. Почему-то мне хотелось избежать встречи с ней, как будто стыдно было.
Мы сидели в этой квартире под ипотекой. Квартира и правда была отличная.
Увидев на экране Stones, я взял пульт и прибавил звук.
Это была пресс-конференция Rolling Stones для печати, перед концертом в Мюнхене.
— Ты посмотри на них, а? — сказал Маркатович, он немного сгорбился и с открытым ртом и покрасневшими глазами уставился на экран.
Журналисты спросили Stones: — В чём тайна вашего долголетия?
Кит Ричардс ответил шутливо: — Это тайна. — И хохотнул.
Он был ещё худым, как будто слишком быстро вырос.
Оставалось впечатление, что происходящее кажется ему довольно глупым. И пресс-конференция, и журналисты… Его взгляд и то, как он держался, говорили: отвалите.
— Ты посмотри на него, а? — сказал Маркатович.
— Ему, должно быть, уже шестьдесят, — сказал я.
— Он пьет самые дорогие вина, манекенщицы толкутся, чтобы попасть к нему в кровать, а он всё равно остается бунтарем! — сказал Маркатович. — Представляешь, он бы стопроцентно сошел с ума, если бы его поселили в каком-нибудь не самом роскошном отеле!
— Да, ведь он же бунтарь, — сказал я и втянул немного кокса с шахматной доски.
Это был целый репортаж о выступлении Stones, показали и фрагменты концерта.
— На концерт пришло двести тысяч человек, а завтра все они пойдут на работу, — сказал Маркатович.
— Нормально, — сказал я. — Они же работают.
Маркатович продолжил: — За то, за что обожают Ричардса, других преследуют, каждый день. Всё, что обожают, всё это преследуют, каждый день.
— Нормально, — сказал я.
— Это началось ещё с Иисуса! — торжественно произнес Маркатович.
— Да, да, — сказал я.
Я чувствовал какую-то безвольность. Посмотрел на него: — А у тебя бывает такой филинг, знаешь, вот когда упомянешь какое-нибудь такое великое слово, ну, как «Иисус» или «революция», а тебя сразу же охватывает какая-то усталость?
Маркатович поднял брови.