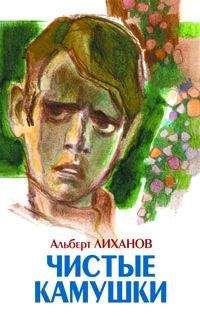Альберт Лиханов - Невинные тайны
С вокзала ушёл последний поезд, от пирса отчалил последний пароход, и хотя еще три рейса должны были подняться в воздух с аэродрома, в списках пассажиров фамилия Жени не значилась.
Да он и не мог улететь самолетом — слишком большой риск.
— Ну, что будем делать? — спросил начальник лагеря. — Объявляем всесоюзный розыск?
Школа-интернат, где по бумагам числился Женя, разговаривала голосом завуча Шевелевой довольно строптиво, с вызовом, а когда начлагеря сказал, что вынужден будет звонить в тамошний горком партии, ответила:
— Вот-вот, позвоните туда. Там вам подробней ответят, кто такой Евгений Егоренков и чей он сын.
— Сын? — почти взвыл начальник. — Но здесь же черным по белому указано, что родителей у него нет. И что он ваш ученик.
— Я ничего не знаю, — сказала завуч Шевелева деревянным голосом, довольно громко, на весь кабинет: слышимость была отменная, — я ничего не знаю, кроме одного: у нас такого ученика нет и никогда не было.
Они молчали с полчаса. Это был коллективный шок. Первой очнулась ветеранка Агаша:
— Банда тут ни при чем.
И хотя всем сразу стало не по себе, всё-таки решили ждать сообщения местной милиции.
Лагерь спал, спал Генка Соколов вместе с остальной оравой в несколько сотен детей, ничем не отличимых от остального детского мира и всё же так не похожих на обыкновенных детей, спала завуч Шевелева, — может быть, даже очень крепко спала, честно выполнив свой долг, как следует отчитав этого нахального начальника лагеря, который, видите ли, окопался на теплом берегу моря да еще и разыскал ее домашний телефон как-то, через милицию, надо же, нахал, дай ей Бог ответить за своих учеников, а тут еще эта известная фамилия и явно грязная подтасовка, нет уж, увольте, нет ничего важнее чистоплотности на белом свете, главной заповеди учителя, спал даже беглец Егоренков, освободивший телеграммами свою душу, отправились спать замы и помы начальника лагеря, отправился восвояси вожатский совет — опытные и бывалые, не спали и не готовились ко сну только, пожалуй, двое — начальник лагеря и Павел.
— Ну, что будем делать? — повторил начальник. — Сейчас позвонит милиция, скажет, пора объявлять розыск, а мы с тобой что ответим им?
Затрезвонил телефон. Павел вскинулся.
— Срочная телеграмма, — сказал начлагеря, хотя лучше бы он помолчал: и так все слышно. — Твое имя. Метелину Павлу Ильичу. Так. Семейным обстоятельствам вынужден выехать домой прошу не беспокоиться сразу прибытии извещу телеграммой. Евгений Егоренков. Место отправления какое, девушка? — заорал он в трубку. — Ага. Понятно. Время? Час назад. Спасибо. Утром доставьте нам, договорились?
Они помолчали. Знаменитая голубая лампа освещала кабинет приятным светом. Говорят, голубое успокаивает. Беседы у начлагеря под такой лампой должны были успокаивать, умиротворять. На этот раз не получилось.
— Что ж, — улыбнулся начлагеря, — парень оказался разумным. Я предлагаю — давай-ка, дунь завтра самолетом в город, откуда он прибыл. Разберись, что к чему. Если подставка, вместо сироты прислали чьего-нибудь сынка, вкатим по первое число. Через партийные органы, вплоть до ЦК, черт побери! Как?
Павел вяло кивнул.
Ехать так ехать, хотя теперь концы почти сходились. Истину можно обнаружить с помощью телефонных звонков. Командировка, что ни говори, не из приятных. Вроде как хватать жуликов за рукав. Да и Женя! Неплохой ведь парень, Павел даже успел к нему привязаться, казалось — вот немногословный, мужественный мальчишка суровой судьбы, а он… Впрочем, что — он? Какими знаниями располагает Павел о Жене Егоренкове? Пока только предположения. Что он знал, например, о Генке Соколове? И что Генка тут выложил!
Начальник лагеря позвонил дежурному по Управлению милиции, рассказал о телеграмме, тот согласился, что выехать на место неплохо и что, хотя беспокойство за мальчика не снимается, рискнуть можно — с поезда его не снимать, хотя ясно, что это пассажирский, дополнительный, и положиться на его благоразумие.
При этом ответственный дежурный подчеркнул, что официально он лишь консультирует, а не советует, что вся полнота ответственности лежит на начальнике лагеря, и если тот примет решение, мальчишку тут же снимут с поезда и доставят по назначению, но вот вопрос — куда? Домой? В лагерь?
— Хорошо, — вздохнул начлагеря, и взгляд его потускнел, — пусть едет.
— Сделаем тогда так, — предложил Павел, — я лечу не напрямую, а в Москву. Номер поезда известен. Вагон как-нибудь уж найду. Дам вам телеграмму. А сам с Женей полечу к нему домой.
Начлагеря заулыбался, нет, что ни говори, а тяжела ты, шапка Мономаха! Тут же сам нашлёпал на машинке командировочное удостоверение, оттюкал справку, чтобы продали билет на самолет для Жени, позвонил в аэропорт, забронировал два места из Москвы до сибирского города, где жил Женя, на тот день, когда приходит пассажирский поезд, всё у него получалось, все его знали, все уже слыхали про маленького беглеца.
— Можно, конечно, теперь и вагон установить, — усмехнулся он. — Да боюсь, спугнут.
— Не надо, — попросил Павел.
Рано утром лагерным службам надлежало — начлагеря дал команду дежурным — вызвать кассира, чтобы снабдить Павла деньгами и выделить легковую машину, чтобы доставить его к самолету.
Всё было сделано. Всё утрясено. Ничего не забыто.
— Ну, посидим ещё пять минут! — предложил хозяин кабинета.
«Что ж, — подумал Павел, — всё правильно, теперь можно продрать меня. С песочком».
— Всё хочу тебя спросить, да некогда, торопимся, бежим, некогда потолковать, — сказал он негромко. — Так вот, хочу узнать, Павел, чего ты к нам-то пошёл? Знаю, ты не из тех, кого привлекают море и фрукты, да у нас и захочешь, так о них забудешь, не та жизнь, но всё-таки? Это же не навсегда. Особенно для мужчины.
Павел усмехнулся, посмотрел в глаза своему начальнику. Приходил ведь он сюда, и не раз, приходил на беседу под голубой лампой, вот и с Аней тогда приходил, а разговоров всё так и не выходило, больше по верхам, по делам, по фактам. Что ж сейчас-то? Или приспичило? Испугался? А может, думает, после этой истории как бы не сбежал Павел Ильич Метелин из этой благодати, из лазурного лагеря, где нет ни секунды покоя и возможности вспомнить себя.
Или это просто тот миг, те минуты, когда всякий человек, уставший от гонки, в разговоре с другим старается объяснить себя прежде всего, свои поступки, сравнить их с поступкам другого и как бы самого себя утешить; оказывается, и этот другой живёт ничуть не лучше тебя, тоже неправильно и тоже ничего не успевает — забыл себя, вертится, как белка. Да так, пожалуй, и есть. Человек соглашается с откровенностью другое потому, что это как бы отражённая, зеркальная форма его собственной откровенности. Только говоришь не ты, а твой собеседник. Исповедуешься его словами.