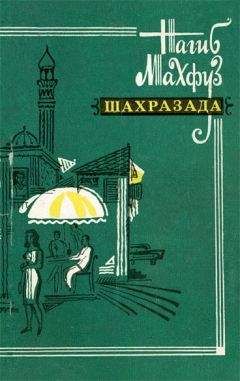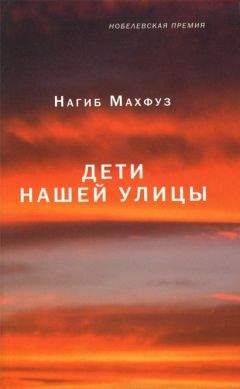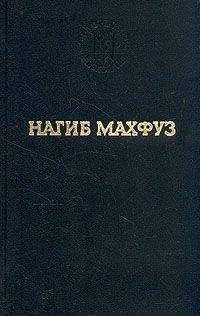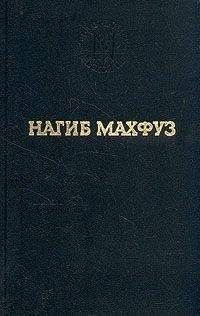Светлана Замлелова - Блудные дети
– Окрести...
Выслушав затем сетования на отцовские запреты и на отсутствие всякой возможности бывать в храме Божием, она назначила маме день и час и велела ей вместе со мной явиться по адресу, который тут же и сообщила.
Мама не преминула воспользоваться приглашением. И в назначенный срок отправилась к той самой родственнице, доводившейся папе неизвестно кем. Делалось это, конечно, тайком от отца и, конечно, без определённой цели. Направляясь куда-то, на окраину города, с грудным младенцем в колясочке, мама рассуждала примерно так: «Что бы коммунисты ни говорили, а там, наверху, всё-таки что-то есть».
Папина родственница жила совершенно одна в собственной избушке. Во дворе у неё жил серый козёл, а в горнице – кошка. Более никакой живности мама не заметила. Повелев маме покормить меня и, распеленав, положить на стол, хозяйка куда-то ушла. За ней убежала и кошка. Исполнив всё, мама уселась на лавку и принялась ждать. Хозяйка не возвращалась, я никак не проявлял себя – освободившись от пелёночных пут, я раскинулся на столе и млел, наслаждаясь свободой, сытостью и мягким теплом комнаты.
Было тихо, никаких звуков, кроме тиканья ходиков, мама не слышала. И в какой-то момент маме стало казаться, что хозяйка ушла насовсем и оставила её в доме одну. От этой мысли маме сделалось страшно, и она, чтобы разогнать страх, поднялась со скамьи и прошлась по комнате. Это была небольшая, несколько вытянутая комнатка с двумя оконцами. Большую часть пространства занимала русская печь с поместительной лежанкой. С потолка на корявом ребристом проводе свисала электрическая лампочка. Между окнами, наклоняясь вперёд, висела большая застеклённая рама со множеством мелких фотографий. На одной из них мама узнала папу. Это несколько ободрило её. Сверху из-за рамы выглядывал букет сухого зверобоя. Всюду по стенам висели пучки сухих трав. Такие же пучки лежали и на подоконниках. Взяв пучок какой-то травы, мама поднесла его к лицу и втянула в себя терпкий запах. В носу у неё защекотало, и она чихнула. Точно в ответ на её чих, стали бить часы. А с последним ударом в комнату вошла хозяйка.
Ни слова не говоря друг другу, женщины сошлись у стола, где лежал я.
– Зря не окрестила, – сказала хозяйка маме. И, выслушав всё те же сетования, продолжала:
– Я сделаю так, что сорок дней он болеть не будет. Но на сорок первый день он заболеет. Если бы вы его окрестили, я бы смогла сделать так, чтобы он вообще не болел. Но сейчас моей силы хватит только на сорок дней. Если за сорок дней, начиная с этого, успеете его окрестить – хорошо. Не успеете – будет болеть.
Разложив на столе пучки каких-то своих трав, она повелела маме не мешать и, что бы ни происходило, не произносить ни единого слова. Потом она подожгла один из пучков и, шевеля губами, принялась водить тлеющим пучком по воздуху, оставляя каждый раз полоску пахучего дыма, от которого маме неизменно хотелось чихать. Так она поворачивалась на все стороны света, кому-то кланялась и всё что-то нашёптывала. Потом она бросила остатки травы в печь, после чего началась другая процедура. В руках у неё оказались спички. Эти спички она зажигала по одной и с неясным бормотанием отбрасывала от себя. Наконец и спички у неё закончились, и она обратилась к маме.
– Всё, – сказала она, – забирай его. И помни, что я сказала о крещении.
Довольная тем, что всё так хорошо прошло и наконец-то закончилось, мама проворно собрала меня и, рассыпаясь в благодарностях, поинтересовалась ценой. На что хозяйка объявила, что денег не берёт, а разве только продукты. Это понравилось маме, и она на радости спросила:
– А вот интересно, что вы шептали?
Хозяйка внимательно оглядела её и сказала:
– Молитвы.
Это тоже понравилось маме и, довольная собой, она отправилась восвояси.
О том, чему посвятила она день, мама ни словом не обмолвилась папе. Но когда, спустя примерно месяц, я вдруг заболел ангиной, и меня с высокой температурой увезли на скорой помощи, признаться всё-таки пришлось. Высчитав дни и убедившись, что всё случилось на сорок первый день после посещения родственницы, мама обвинила в моей болезни отца.
– Вот окрестили бы ребёнка, не было бы ничего, – плакала мама. – Ты всё!.. Отвезли бы потихоньку в церковь, никто бы и не узнал. А теперь вот, не знаешь, что и думать...
Папа был сражён коварством и легкомыслием мамы. Мало того, что за всеми её действиями проглядывала прямая угроза его карьере, папу особенно почему-то потрясли эти спички, разгоравшиеся над моей головой.
– Ясное дело! – кричал он. – Напугали ребёнка, он и заболел...
– Это через сорок дней-то? – язвила мама.
– Да у него шок был! Понятно? Шок!.. А если бы вы его обожгли? Своими спичками... Если бы сера ему в глаз попала? А?
– Если, если, если, если! – оборонялась мама.
– Да и что там эта ведьма над ним шептала? Ты знаешь?
– Эта ведьма, между прочим, твоя родственница!..
Они ещё долго ссорились, а я долго болел. И каждый раз, когда новый недуг обнаруживал себя в моём хилом тельце, мама неизменно принималась обвинять отца, уверяя его, что «надо было крестить вовремя». Отец же в свою очередь убеждал маму, что «напугали его своими спичками, вот он и растёт ледащий».
А крестился я уже после школы с одним приятелем. Тогда все крестились. Мода была такая. Веру не обсуждали, но крестились охотно и с увлечением. Зачем – никто не знал. Скорее всего, назло большевикам, которых уличали тогда в обманах. Раз большевики запрещали религию, значит, укрывали что-то важное. И здесь была тайна. И все, точно навёрстывая упущенное, бросились в церковь.
Потом я иногда забегал в храм и даже ставил свечи, воображая, что в этом-то и состоит вся суть веры. Как-то я просил у Бога, чтобы родители купили мне CD-player. И когда мне его купили, я понял, что Бог действительно существует. С этим я жил какое-то время. Памятуя об этом, я разглагольствовал перед Рэйчел о религии и «пути жизни». Но когда я узнал о Максе, я подумал, что Бога, наверное, всё-таки нет. И права была Рэйчел, когда говорила о системе координат. Но судьба привела меня в монастырь, и я как-то смутно почувствовал, что это не простая случайность. Я вошёл в храм, затаив дыхание, я точно боялся чего-то – я предвкушал Встречу.
Народу в храме оказалось на удивление много. Публика подобралась разношёрстная. Монахини соседствовали с какими-то потёртыми тётками и холёными дамочками, приехавшими, очевидно, из Москвы – во дворе я заметил несколько машин с московскими номерами. Бок о бок стояли и толстые дядьки с золотыми перстнями, и трясущиеся деды, и наряженные дети. Что ещё могло бы заставить всех этих людей собраться вместе?
Когда я вошёл, до меня донеслись чистые, натянутые как струны женские голоса, словно певчие шли по тонкой грани и в страшном напряжении сил, чтобы не сорваться, выводили:
... воскресе из мертвых
смертию смерть поправ...
Дальше я не разобрал, но заворожённый красотой музыки, замер. Я был в каком-то восторге. Мне хотелось снова и снова услышать этот кусочек. Ни о чём больше я не мог думать. Только бы услышать ещё. И вот...
Христос воскресе из мертвых
смертию смерть поправ...
И дальше снова не разобрал. Но это неважно, неважно! О, какое блаженство, какая гармония! И почему я не слышал этого раньше?
– Христос воскресе! – возгласил священник.
И толпа – все эти бабки, тётки, дети и толстосумы, блудницы и монахини – все разом подхватили:
– Воистину воскресе!
– Христос воскресе!
И вот я тоже подхватил и точно вздох облегчения вырвался у меня:
– Воистину воскресе!
– Христос воскресе!
– Воистину воскресе!
Мне хотелось смеяться, и я с удовольствием улыбнулся какой-то тётке в жгуче-розовом платке.
И снова запел хор, а я вспомнил, что где-то там, возможно, поёт и она. И аккуратно стал пробираться вперёд.
Я сразу узнал её. Она стояла вторая с краю. Одета она была во всё чёрное, и только платок был у неё почему-то не чёрный, а светлый и цветастый. «Может, в честь праздника?», – подумал я.
Медовые пушистые волосы выбивались у неё из-под платка и в косом солнечном луче, врывавшемся в храм сквозь узенькое оконце, казались свечением, нимбом, как у святых на иконах. Она и правда была похожа на святую. Её лицо, ещё и прежде поразившее меня выражением уверенности и покоя, теперь точно упрочилось в этом выражении. Это было лицо, не омрачённое ни суетной заботой, ни грубой чувственностью, ни горделивой отстранённостью. В этом лице было что-то новое и неизъяснимое – что-то надмирное. И если бы меня как художника попросили изобразить свободу, я бы написал именно это лицо.
И вдруг снова:
Христос воскресе из мертвых
смертию смерть поправ
и сущим во гробех
живот даровав...
Слова я разобрал и в следующий раз уже подпевал хору, не стесняясь не попадать в ноты и не боясь показаться смешным.