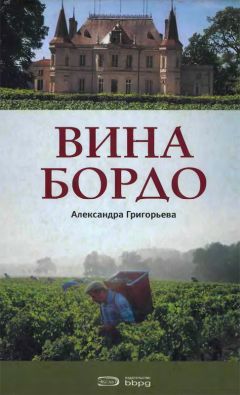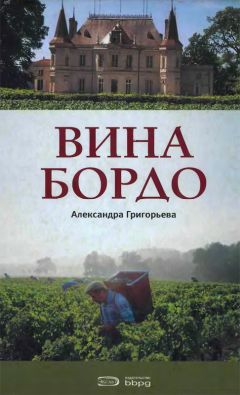Владимир Топорков - Наследство
– Теоретические измышления, вот как, – парень сморщил лоб, – так, по-моему, в газетах пишут. Сейчас у нас много таких развелось. Будто у них за страну душа болит, а на самом деле вредят, людей от дела отвлекают…
– Каких людей?
– Да вот таких, как я, например. Вы думаете, мне легко было к вам вырваться? Почти месяц времени не находил – то заседания, то совещания, справки, отчёты разные. А тут жалоба ваша за душу тянет. Понимаю, конечно, что там и проверять-то нечего, всё ясно, как божий день, но надо было с вами встретиться, разъяснить…
– Ну и что, разъяснили? – спросил снова с грустной иронией Бобров.
– Да, я думаю, что теперь вы отчётливо понимаете абсурдность вашей позиции…
– А если я не согласен с вашими выводами? Да поймите же вы. Степан Плахов не злостный нарушитель дисциплины, как представляет его Дунаев, а добросовестный работник, который отдаёт всего себя делу. Потерять его – значит нанести вред…
– Вы знаете, – усмехнулся инструктор, – незаменимых людей нет…
– А вы назовёте, кто первым произнёс эту фразу? – спросил Бобров.
– Не знаю, – инструктор захлопал глазами, – все так говорят.
– Так вот, объясню вам – мысль эту расхожую на свет божий извлёк Сталин. А для чего, не знаете? Да для того, чтобы оправдать массовые гонения и уничтожение кадров. Раз незаменимых людей нет, значит, можно всех и истреблять.
– Простите, – поперхнулся инструктор, – я этого не знал. Но всё равно, Плахов не тот человек, которого надо защищать, товарищ Бобров. А потом, это непорядочно – защищать неблаговидные поступки своего друга. Всему колхозу известны ваши взаимоотношения.
– По-вашему выходит, что дружить с человеком нельзя, даже если цена этой дружбы – целая жизнь. Я Степана, слава богу, с раннего детства знаю…
– Тем хуже, – инструктор противно стучал костяшками пальцев по столу, – тем хуже… Нельзя же, Евгений Иванович, своих друзей так выгораживать…
– А если друзья правы? Тогда как? Тоже руки в брюки, да? А о судьбе чернозёма вы поговорите с Николаем Спиридоновичем Беловым. Знаете такого?
– А, это чудак такой, – засмеялся парень, – знаю, как же… Поговорю… Ну ладно, я пошёл…
Он быстро шагнул к выходу, картинно поднял руку в знак прощания и скрылся за дверью. А Боброва скорчило всего, он будто усох, как усыхает в конце лета трава. Господи, подумалось, ведь этот парень ушёл с видом победителя. Сколько их, вот таких мотыльками порхающих людей, за последнее время развелось! И неплохо живут, довольны всем, а прежде всего сами собой, решают судьбы людей походя, как ударом топора отсекают.
Но жизнь надо продолжать, какой бы сложной она ни была, подумал Бобров, продолжать во имя Степана, родной земли, во имя завтрашнего дня: каким он будет, завтрашний день? Радостным, добрым или вот таким, как сегодня, когда хочется сжать кулаки, стучать в двери, доказывать? А может, пережить всё молча, дождаться, чтоб поутихли боли… Скорее в доме работы закончить, перебраться, жить затворником…
При мысли о доме перед Бобровым возник образ Ларисы. Ну да, как же, это она о новоселье говорила. Поди дозовись её сейчас! И опять защемило сердце, холодная волна обдала изнутри. Эх, как ему сейчас не хватает тёплой поддержки! А может быть, написать ей письмо? Где-то имеется адресок…
И опять сомнения начали раздирать душу – а поймёт ли его Лариса? У неё теперь свои заботы. Слышал Бобров в посёлке, что колхозная врачиха перешла уже на квартиру к Егору и тот по утрам возит её на работу в профилакторий… Впрочем, это его мало волнует, и Бобров отрешённо махнул рукой.
Через два дня его неожиданно вызвал председатель среди дня. Был Дунаев какой-то праздничный, чуть бледноватое лицо искрилось тихой радостью. Видимо, ему хорошо жилось с новой женой, и от этого стало грустно и обидно за Ларису.
– Евгений Иванович, почему заключительный отчёт по урожайности не подписан? – спросил с ходу Егор, и Боброву всё стало ясно. Значит, доложила колхозный бухгалтер о неприятном разговоре, состоявшемся между ними. Евгений Иванович наотрез отказался подписать заключительный счёт, и свою правоту он попытался доказать бухгалтеру. Работники бухгалтерии включили в валовку хлеба и зерно, собранное на паровых полях, тех, которые засеяны против воли Боброва, а в результате этой несложной операции урожайность возросла на три центнера по колхозу, дутая урожайность. Тогда бухгалтер, кажется, всё поняла, скривила губы, но молча забрала отчёт. И вот теперь вызов к председателю…
Бобров постарался спокойно объяснить положение, говорил твёрдо и неторопливо, хотя в душе не верил, что вся эта «химия» делалась без согласия председателя. Но надо до конца выяснить ситуацию, и Бобров пристально, в упор глядел на Дунаева. Медленно, зоревой краской наливалось лицо Егора, потом стало багровым, как после бани, и он сорвался на крик, какой-то бабий, пронзительный:
– Значит, подсиживать меня вздумал, Бобров? Значит, нож в спину направляешь? За всё хорошее, да?
Евгений Иванович сцепил дрожащие руки. Кажется, никогда в жизни на него так не кричали, и этот пронзительный крик, как боксёрский удар, приковал к месту.
Надо было отдышаться, набраться силы, и Бобров ещё несколько минут молчал, слушал запальчивый крик Дунаева, а потом сказал через силу первые слова. Голос осел, как от родниковой воды, но твёрдые нотки он сохранил:
– Я не подсиживаю тебя, от тюрьмы спасаю.
– От какой тюрьмы? – Егор закатил глаза. – О чём толкуешь?
– Об элементарной уголовной ответственности за приписки.
– Хе, – ехидно улыбнулся Егор. – Ты поищи дураков в другом месте, нету приписок, нету! По учётным листам комбайнёров всё правильно проведено, не проверишь, а площади давно под зябь вспахали. Чем докажешь?
– Да мне и не надо доказывать, – Бобров опустил глаза, – не моё это дело…
– А коль не твоё дело, подписывай отчёт, – приказал Дунаев.
– А вот это меня даже под пистолетом не заставишь!
– Значит, не заставишь! А заявление на расчёт можно заставить написать?
– Надо?
– А ты как хотел? – Егор, красный, возбуждённый, забегал по кабинету. – Как мне работать, если агроном себя великим умником считает, палки в колёса на каждом шагу… Ты думаешь, ты один честный, а другие мошенники, у них душа не болит? Ещё как болит, нарывает, как чирий. Я тебе уже раз объяснял: «Не живи, как хочется, а живи, как бог велит». А наш бог, он такие загадки загадывает…
– Ты про кого говоришь, Егор Васильевич? – Евгений Иванович прищурился, и Егор от этого вопроса дёрнулся, руку взметнул вверх, указал пальцем в потолок.
– Там всё знают… Всё…
– И про твои приписки?
– Опять ты за своё… – Егор бег свой прекратил, подошёл поближе, сказал тихо, почти шёпотом: – В общем, я тебе всё сказал, Евгений Иванович. Терпение моё кончилось. Не желаешь работать – пиши заявление и катись к чёртовой матери.
– Если нужно заявление, то за ним дело не станет. Напишу. Только, Егор, имей в виду – всех не разгонишь. А разгонишь – с кем работать будешь? Сам ты, по-моему, в последнее время работать разучился, только руководишь.
Бобров ушёл в свой кабинет и на чистом листе начал писать заявление. Но буквы ложились на бумагу какие-то рваные, колючие, и он два листа смял и бросил в корзину. Надо было успокоиться, ещё раз всё осмыслить, и Евгений Иванович отбросил ручку.
Но чем больше Бобров размышлял, тем яснее становилось для него: напишет или не напишет он сейчас заявление – это не самое главное. Главное – нет пока у людей понимания тех проблем, которые его волнуют. И не только у Егора – с ним всё ясно! Другие цели преследует председатель. А вот те, кто рядом с ним работает, разве они задумываются? Да и Евгений Иванович тоже хорош, он, как Дон Кихот, с ветряными мельницами воюет один. Наверное, стоило всех колхозников подключить, их совесть разбудить…
И опять плавный ход этих мыслей как взрывом разметало: а что могут люди, если их мнения и не спрашивают? Тогда людское мнение ценно, когда им дорожат. Если бы так было…
Бобров взял ручку, написал заявление. Теперь он это сделал спокойно, с чувством необходимости, размышляя о том, что, видимо, и в самом деле плетью обуха не перешибёшь…
Он отнёс заявление Дунаеву и, не дожидаясь, пока Егор прочитает его, пошёл обратно. Он уже был у двери, когда Егор с хохотком своим обычным, довольным сказал:
– Ладно, сегодня и рассмотрим на заседании правления.
Надо бы остановиться, сказать что-нибудь резкое, но противный этот хохоток, кажется, все жилы в теле натянул, они, как струны, звучно запели, заскрипели ржавым тросом. «Чёрт с ним, – подумал Бобров, пусть наслаждается, а я и без правления проживу».
Он пришёл на квартиру необычно рано, и Серёжка, видимо вернувшийся недавно из школы, уставился на него недоумённо:
– Ты чего, папа?