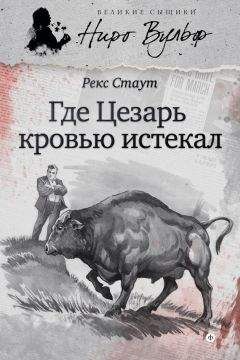Робер Сабатье - Шведские спички
— Кто там?
Он дошел до следующего этажа и увидел пожилую высокую тощую женщину с длинным крючковатым носом. На плечах ее был черный платок. Она спросила, чего ему надо, и Оливье ответил самым любезным тоном:
— Извините, мадам привратница, я хотел бы узнать у вас что-нибудь о Даниэле. Знаете, о калеке, который вот так ходит…
— О господи! Да его больше здесь нет.
Эти слова, произнесенные весьма решительно, да и сама длинная старуха, от которой несло нюхательным табаком, вызывали такую робость, что Оливье смутился, пробормотал какие-то извинения и повернулся, чтобы побыстрее уйти. Но она неожиданно окликнула его:
— А что ты хотел?
— Ничего. Только поговорить с ним.
— Ну ладно, пойдем со мной наверх.
Вынув из кармана общий ключ от квартир, она поднялась с мальчиком на пятый этаж; они вошли в окрашенную белой краской мансарду, которая походила бы на монастырскую келью, если бы там не висела репродукция «Весны» Боттичелли. Очень странно было видеть ее в жилище с сырыми, липкими стенами. Оливье не приходилось бывать в комнатах без обоев, таких пустых, таких светлых. Он увидел металлическую кровать, побеги самшита в стакане, столик для умывания с эмалированным тазом и кувшином.
— Вот, — сказала женщина, — здесь он жил.
— Да? — удивился Оливье.
Привратница вынула шпильку из шиньона и почесала ею в затылке. Она указала Оливье на столик у изголовья кровати, где лежало стопкой несколько книг. Мальчик благоговейно приблизился и взял одну. Имя автора он прочел с трудом: Шопенгауэр.
— Все время он читал.. Да такие еще чудные книжки.
Оливье держал книгу в руке. Она показалась ему очень тяжелой. Он не задавал женщине вопросов. Только глаза его спрашивали.
— Но это было не так уж плохо, — сказала женщина. — А вот посмотри на стены. Знаешь, сколько дней он затратил, чтоб их выкрасить? Кисть он держал, сжимая ее обрубками рук или во рту. Даже и потолок покрасил. Понемножку, никому ничего не говоря. Наверно, краска текла у него по лицу. Прежде он жил в нижнем этаже, вместе с матерью. Потом она умерла, а его здесь оставили. Она была такая святоша. Может, поэтому он так много читал.
— Паук умер? — спросил Оливье.
— Нет-нет, ведь люди так просто не умирают, даже калеки. Однажды утром он вдруг начал кричать. Как я вспомню об этом, меня дрожь пробирает. Прямо как безумный вопил, его трясло. Соседи решили звонить в госпиталь. Но он не хотел, чтоб его увезли. Ты же понимаешь — калека… Теперь его оттуда не выпустят.
Оливье смотрел на нее округлившимися от испуга глазами. Его объял страх. С ужасом он осмотрел стены, кровать, книги, увядшую розу, упавшую на пол рядом с ночным столиком. Внезапно образ Виржини слился в его сознании с Весной Боттичелли. Как ни груба была эта привратница, она уловила на светлом лице ребенка, в его зеленых глазах глубокую скорбь.
— Стало быть, ты хорошо его знал?
— Да, — ответил Оливье, — он был моим другом.
— Я думаю, ему там будет лучше, чем здесь. Калеки — у них ведь свой, отдельный от всех мир.
Оливье отлично знал, что это не так. Паук очень любил улицу. И ее людей. Даже тех, кто на него и внимания не обращал. И мальчику почудилось, что откуда-то издалека Даниэль зовет его на помощь. И Виржини тоже зовет его. А он ничем не может помочь им — ведь он ребенок.
— Ну, уходи теперь, — сказала привратница, — у меня рагу на огне. — И добавила: — Если хочешь, возьми книги. Никому они не понадобились…
— Я могу? Правда? Могу их взять?
— Одна книга из муниципальной библиотеки. Ты ее сдай туда…
Оливье взял стопку книг под мышку, поблагодарил и спросил:
— А может, он вернется?
— Нет, — ответила женщина, слегка подталкивая его к лестнице, — не вернется он.
Что скажет Элоди, когда Оливье притащит домой эти книги? Он тихонько засунет их в свой ранец и будет смотреть по очереди одну за другой. Школьные учебники ведь не были его собственностью — их выдала дирекция, как и другим ребятам. Только теперь Оливье показалось, что наконец-то у него настоящие книги.
Мальчик бежал по улице, опасаясь, как бы на него не напал Пладнер с дружками: он крепко держал свои книги, точно сокровище. Вышло так, будто Паук их завещал ему лично. Оливье никогда не слыхал о бутылке, которую бросают в море с гибнущего корабля, он не смог бы сравнить эти книги с белыми камушками, которые оставлял за собой на дороге Мальчик с пальчик, или же с посланием, выброшенным из окна темницы заключенным в нее пленником. Просто Оливье как бы уносил с собой самого Даниэля, страдающего и всеми покинутого друга, вместе с его тайной и незабываемым взглядом.
Улица Лаба выглядела пустой, тусклой, оголенной. На какое-то мгновение Оливье ее разлюбил. Улица допускала, чтоб у нее похищали ее обитателей. Она никого не желала защитить. И становилась чужой, враждебной, все ее яркие вывески больше ничего не говорили его душе. Сердце ребенка было полно тревоги. Оливье посмотрел на галантерейный магазин, бросился в подъезд дома номер 77, забился в угол у двери в подвал и заплакал.
*На следующий день мальчик столкнулся лицом к лицу с Гастуне, протянувшим ему два пальца, которые Оливье с неприязнью пожал. Мальчик опасался, что Гастуне снова заговорит о «Детях Армии». Гастуне интересовался другими только в том случае, если мог при этом поговорить о самом себе, но иногда он умел заинтересовать ребятишек не столько рассказами про войну (ведь у каждого в семье имелся хоть один человек, упивавшийся подобными темами), сколько всякими безделушками: цепью для часов с брелоками, табакеркой, зажигалкой с длинным трутовым фитилем, множеством разных карандашей, в том числе со вставным графитом, который так же, как и вечное перо, был прикреплен к отвислому карману, — и все это вполне гармонировало с живописной выставкой его наград и медалей, развешанных на груди.
В этот день, не найдя себе взрослого собеседника (некоторые, заприметив его из окон, проводили рукой по шее, показывая, что он уже вот где у них сидит), Гастуне набросился на Оливье:
— Пойдем ко мне. Я дам тебе чего-нибудь выпить!
Так Оливье проник в его обиталище. В прихожей он заметил фаянсовый горшок для цветов, бронзового медведя с подставкой для тросточек и бамбуковую вешалку, увенчанную фуражкой унтер-офицера. В столовой стояла черная печка фирмы «Годен» с многоколенчатой трубой, протянутой через всю комнату и уходившей в задымленное отверстие. Линолеум на полу был начищен до блеска, и ходить здесь полагалось в фетровых тапочках, что очень позабавило Оливье. Гастуне приказал ему вымыть руки и налил рюмочку вишневой настойки.
— Посмотри-ка эти портреты!
Он раскрыл перед ним альбом с фотографиями; некоторые были цветные и наклеены на серые паспарту, заменявшие рамки, остальные — черные или коричневые; большинство фотографий Гастуне вырезал из журнала «Иллюстрасьон». Он показывал маршалов и генералов, всячески расписывал их храбрость, сообщал, что один из них сделал то, а другой — это, и у ребенка создалось впечатление, что каждый из них шел в бой в одиночку, как Бонапарт, захвативший Аркольский мост. Но все же Оливье заметил:
— Но они уже не могли бегать, ведь они все старые…
— Гм! В те времена они еще не были старыми! — заявил Гастуне.
Особую речь Гастуне посвятил Манжену, который отличался крутым нравом. Потом он открыл другой альбом, с портретами президентов республики — от бритого Тьера до бородатого Поля Думера. Ребенок осмотрел президентов только с усами — Казимира-Перье, Дешанеля, Мильерана, ознакомился и с теми, у кого вдобавок была борода — Мак-Магоном, Думером, Греви, Сади Карно, Лубе, Фальером, Пуанкаре, и особое внимание обратил на Думерга, чье ласкательное имя — Гастуне — и унаследовал унтер-офицер.