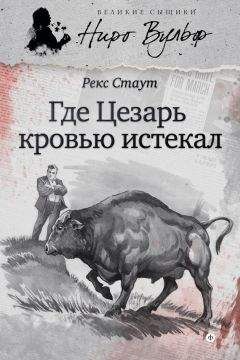Робер Сабатье - Шведские спички
Оливье еще думал над этим, но Мадо неожиданно засмеялась:
— Шоферша такси, ах, я понимаю, в чем дело! О боже мой, как люди глупы… Нет-нет, не ты, люди. Да нет же, я, конечно, была такси-герл, но ведь это совсем другое. Они танцуют…
Она не сочла нужным объясниться подробней, и Оливье проронил «Ах так?», будто он понял. И не заметил, как взор Мадо затуманился. Она машинально спросила:
— Еще кекса хочешь?
И, не дожидаясь ответа, положила ему кусок, а себе в чашку бросила дольку лимона. Мыслями она была уже далеко: там, в танцевальном зале, украшенном серебристыми, геометрической формы цветами, с огромными прожекторами, распространяющими странный свет — ослепительный, если смотришь прямо на прожектор, но вместе с тем едва освещающий танцевальную площадку. На эстраде играл жалкий оркестрик, а на другом возвышении стояли в ряд «такси-герлз», ожидая, пока какой-нибудь кавалер выберет себе среди них партнершу. Мужчина держал в руке розовый билетик с перфорированными отверстиями. Партнерша забирала у него билетик, делила его на две части, как это делает в кино контролер, одну половинку бросала в урну, а другую клала в сумочку — эти полубилетики определяли ее зарплату. Она танцевала по большей части с неизвестными ей, но вежливыми людьми; некоторые из них, прощаясь после танца, целовали ей руку, а затем уже, как полагалось, аплодировали оркестру. Затем Мадо вместе с другими «такси-герлз» возвращалась на свое место и освежалась безалкогольным напитком, только по цвету напоминающим спиртное: холодный чай вместо виски, минеральная вода «виттель» вместо водки.
Мадо тряхнула головой, словно хотела выбросить из нее воспоминания об этом мрачном периоде своей жизни. Оливье все еще держал на вилочке кофейное пирожное и думал, что ему надо бы поддержать разговор, но не находил достойных тем, кроме тех, что ему давала жизнь улицы, а это, как он считал, покажется Мадо скучным. Однако рассказал следующее:
— У меня есть друг, его зовут Люсьен, у него полно радиоприемников, и в них столько всякой музыки. Он живет на улице Ламбер…
— Да, в самом деле, — рассеянно заметила Мадо.
— А потом у меня есть еще приятель Бугра. И мадам Альбертина.
— А друзья-ровесники у тебя, наверно, тоже есть?
— Конечно! Их много! Лулу, а особенно Капдевер. Мы с ним большие приятели, хотя… ну, в общем, хотя… Да у меня полно дружков! И даже один калека! Знаете, тот, которого зовут Паук! Так вот, его имя — Даниэль, он мне сам сказал. Только что-то его больше не видно.
Так как Мадо не ответила, мальчик добавил:
— Может, он болен?
— Может, — равнодушно сказала Мадо.
— А Мак, он — каид. Он научил меня драться, — продолжал Оливье, напрягая перед ней свои мускулы.
— Ну ладно, ладно…
Оливье опустил голову. Подумал, что, наверное, ей надоел. Как жаль, что он еще не взрослый. Будь он мужчиной, как Мак или как Жан, уж он поговорил бы с ней о всякой всячине: о кино, о спорте, о театре, он бы заставил ее посмеяться, и тогда Мадо сказала бы: «Ой, какой ты смешной, как с тобой хорошо!» Оливье разочарованно рассматривал свои тощие ручонки, чувствуя себя маленьким, совсем малышом, таким робким! Тайком он оглядел еще раз прелестное лицо Мадо, ее гладкий беленький носик, красивые, цвета платины, волосы. Красота Мадо вызывала у него грусть.
Но она выглядела счастливой, казалось, ей здесь нравилось, и мальчик решил, что это из-за вкусного кекса. Мадо открыла сумочку, заплатила официантке. Все ее жесты были именно такими, каких можно было ожидать — точные, рассчитанные. Оливье была не очень-то по вкусу ее уверенность. «Совсем как мамаша!» Нет, это ему было не по душе. Мог ли он понимать, что по-своему, по-детски влюблен в Мадо?
— Ну, ты доволен? — спросила она.
— О да, конечно!
Белая душистая рука ласково потянулась к его щеке, и Оливье придвинулся ближе, чтоб ощутить прикосновение. У него было желание схватить эту руку, покрыть ее поцелуями. Он прошептал: «Ах, Мадо, Мадо…», — посмотрев на нее таким напряженным взглядом, что Мадо смутилась. Едва улыбаясь, она промолвила:
— Ну вот и прекрасно. А сейчас мы расстанемся. Мне нужно позвонить одному другу.
Оливье крепко пожал ей руку. Может быть, чересчур крепко, но он вспомнил, как люди говорили, что рукопожатие должно быть чистосердечным и прямодушным. Мальчик посмотрел в сторону девчонок-насмешниц, которые все еще жеманно болтали, и пошел на цыпочках из салона, как будто он был в церкви.
*Оливье правилось смотреть на Лулу, когда тот морщил нос, кривил свой забавный рот, чесал «вшивую башку» и придавал еще более смехотворный вид своей и без того уморительной мордочке. Альбертина пренебрежительно говорила о нем: «Ну и фигляр! — и, посмотрев на Оливье, обычно добавляла: «Два сапога — пара!»
Когда Лулу переставал вертеться вьюном, то он вовсе не становился таким задумчивым или грустным, как Оливье, отнюдь: за неугомонными движениями тела следовала столь же буйная речь — Лулу обожал игру слов, всякие песенки или двусмысленные фразы, которым научился у своего отца. Он, подняв палец, изображал вдовушку, которая трясет лорнетом и мямлит смешным голоском: «Один молодой человек, девяноста лет от роду, сидя на камне из белого дерева, читал ненапечатанную газету при свете погасшей свечи». Или говорил, покачивая головой и паясничая: «Нет, мы этого никогда не узнаем… — И после паузы, полной отчаяния, добавлял: — Нет, мы никогда не узнаем, кто поставил корзину с калачами под кран канистры с бензином. Увы! Мы этого никогда не узнаем».
Скучать с Лулу было невозможно. В карманах у него постоянно хранились какие-то забавные вещицы: игральные кости, прозрачная коробочка с бегающим по лабиринту мышонком, которого следовало загнать в убежище, чтоб спасти от кота, была у него и куча кривых гвоздиков, и нужно было разгадать секрет, как сцепить их друг с другом. Иногда Лулу предлагал сыграть партию в ши-фу-ми : полагалось, спрятав за спиной руку, выбросить ее неожиданно вперед, сложив в форме камня, листка или ножниц. Или он брал веревку и заставлял всех играть, припевая: «Распилим поленце для мамаши Никола: на тысячи кусочков свои сабо сломала она». Он знал кучу детских считалок, чтоб решить «кому водить», и любил загадывать слова, обозначающие ремесла.
— С…р.
— Столяр.
Так как почти всегда оказывалось не то, надо было назвать все буквы подряд. Оливье выкрикивал гласные и согласные, и при каждой ошибке Лулу добавлял мелом еще одну деталь к нарисованной на тротуаре виселице. К концу игры Оливье уже не только был повешен, но даже сожжен. А Лулу смеялся вовсю: «Это был слесарь!» Оливье бурно протестовал: «Так ты ж не той буквой закончил, разве так пишут?»
Существовали и другие игры, но уже без твердо установленных правил. Начиналось с утверждения: «Я буду солдатом…» — и дальше фантазировалось, что могло из этого проистечь, вплоть до абсурда: «Я буду солдатом и… и съем пирог с яблоками!» Или Лулу объявлял: «Одно из двух!» — и Оливье находил всегда первое из двух и никогда — второе, а однажды у него получилось: «Одно из двух — или я глуп… или же… я глуп!»
— Здравствуйте, мадам Хак!
— Ну заходите же, повесы вы этакие, и ведь как только догадались, что я пеку оладьи!
Ребята, которых действительно привлек к ее окну вкусный запах, подмигнули друг другу и зашли к Альбертине, чтоб сразу пристроиться к столу и лежавшим на тарелках оладьям, благоухавшим апельсиновым сиропом. В знак благодарности им пришлось выслушать откровения Альбертины, рассказавшей о пресловутых путешествиях своей дочки, а также о тех временах, когда она была «не такой, как сейчас», и разные зажиточные господа просили ее руки: «Но я была такой дурой, что отказывала, а если бы согласилась, была бы нынче богатой!» Потом она заговорила о людях, которые ей завидуют: «Знаете, всем трудно нравиться, ведь я не луидор!» В заключение она сообщила детям секреты, которые ей поведал в переписке один индийский спирит, после чего стала гадать на картах.