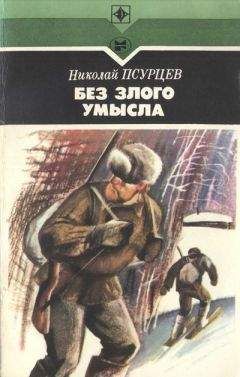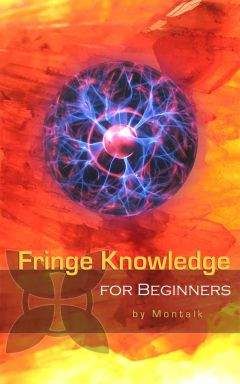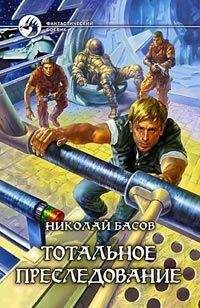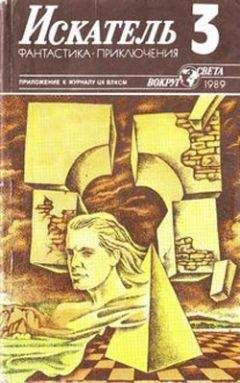Николай Псурцев - Тотальное превосходство
Вылизывала своего стервеца. Буквально. А он вырывался, плевался, царапался, хныкал, убегал из квартиры и сидел часами в палисаднике на соседней улице… Обыкновенный человек. Точно такой же, как и Вера. Тащило и тащило его по жизни, как что-то там по реке… Инерция. Папа и мама учились в институте. И он учился в институте. Папа и мама работали преподавателями, и он работает преподавателем… Ничего не хочет. Ничем не интересуется. Ему неинтересно н-и-ч-е-г-о… Зачем живет?
После того как Вера попробовала показать ему стриптиз, не выдержал — ушел-таки. Даже не собрав вещей… Едва не сблевал, когда она начала снимать трусики, пританцовывая и гримасничая, тараща свои круглые глазки и болтая по-дурацки языком меж губами…
Ныла, выла, поливала слезами потолок, топила пол в поту из-под мышек, хрякала, хрюкала, мечтала о девственности, трезвая, не пьяная, стригла ногти и танцевала на них, остреньких, голыми, то есть неодетыми, пятками, глаза какое-то время не могла сдвинуть с места, они смотрели только туда, куда поворачивалась голова, а уши, в свою очередь, теперь постоянно слышали чьи-то крики; кого-то мучили, наверное, где-то или кого-то убивали, возможно, далеко или близко, и кто-то в связи с этим поэтому, естественно, обреченно и отреченно кричал, и бедная Вера, судя по всему, именно этого «его» или «ее», крики и вопли их, «его» или «ее», каким-то образом слышала, толстела, не худела, ела до боли в животе, пила до треска и клекота в мочевом пузыре, плевалась и рыгала при слове «секс», искренне, без кривлянья, и готова была сломать об колено члены всем мужчинам в мире без исключения — и даже тем, которые уже умерли или которые только что родились…
Пробовала ласкаться, приятно неожиданно сначала, кстати, для самой себя, с безответственной и отягощенной грузом поисков новых ощущений и впечатлений школьной подругой, тоже толстенькой и тоже потливой. Ни та ни другая так ни разу и не кончили, хотя возились, подвыпившие и разгоряченные, стеснительные, но упорные, где-то примерно около часа… Расстались нелюбимыми. Знали, что больше теперь не встретятся никогда. Если только случайно, конечно…
Первоклассников, второклассников, третьеклассников, четвероклассников теперь ненавидела, особенно мальчиков, да и девочек, собственно, тоже, а также, ко всему прочему, ненавидела теперь еще и пятиклассников, и шестиклассников, и семиклассников, и восьмиклассников, и девятиклассников, и десятиклассников, и одиннадцатиклассников, и студентов еще, и курсантов, и аспирантов, и слушателей, и ординаторов, доцентов, профессоров, адъюнктов, заведующих кафедрами, лабораториями, отделами, ректоров, проректоров, деканов, старших и младших научных сотрудников, директоров, председателей, начальников, ведущих и главных, заместителей, вице, консультантов, помощников, советников, секретарей, референтов, шоферов, поваров, сторожей, офицеров, ветеринаров…
К ветеринарам относилась все-таки без дурноты. Будто предчувствовала, что они ей скоро понадобятся. Но не сейчас. Сейчас они ей только снились иногда. Всегда. Каждую ночь и день, если она засыпала днем. Каждый час. Минуту. Секунду. Минуту… Во сне целовалась с ветеринарами и застегивала им подтяжки… Брючные ширинки на молниях имели все ветеринары. Ни одной ширинки на пуговицах. А ширинки на пуговицах часто вновь возвращаются в моду — хоть и неудобные. Ширинки ветеринарам не расстегивала. Только целовалась с ветеринарами и заботилась по-матерински об их подтяжках. Во сне еще любила мышей, хотя в жизни к ним относилась с брезгливой суровостью. Целовалась во сне и с мышами… Однажды ей приснился лохматый ветеринар в широких кожаных подтяжках со стальными заклепками. Волосатый ветеринар и его кожаные подтяжки возбудили ее до такой степени, что она даже кончила во сне. Рвала голос, билась в эротических судорогах. Ласкала себя — терзала себя… Проснувшись, поняла, что ей необходима собака… Когда тем же утром увидела посередине кухни злобно и оскорбительно тявкающую толстую мышь, то в своем решении укрепилась уже окончательно. Вот оно как…
Лабрадора назвала Зигмунд, в честь великого Фрейда.
Это самая добрая из всех добрых собак на свете, рассказали ей специалисты, и похожа на собаку. Большая, сильная, складная, красивая.
Через полгода у собаки появились обаяние, уверенность, снисходительность, усмешливость, действительно сила и на самом деле красота, голос, взгляд, ум… Вера заметила все эти изменения как-то разом — в один день. И ей тотчас же стало страшно. И ей сразу же сделалось хорошо…
Она любила и ухаживала. Она командовала и наслаждалась. Она играла и учила. Она сердилась и умилялась.
Вера похудела и похорошела. И не так обильно и зловонно уже потела. К людям окружающим начала относиться терпимо. А детям из первых четырех классов даже несколько раз смогла улыбнуться — хоть и вымученно, но с желанием.
Пропитана, насыщена, наполнена была Зигмундом так, что несколько раз с зябким изумлением ловила себя на мысли, что не терпит его даже убить как можно скорее. Высокое чувство… Рыдала, глядя на него спящего. Молотила подушкой стены, и пол, и потолок, и окна своей спальни, заслышав его трогательный, безмятежный и беззащитный храп, доносящийся из-под кровати, из-под ее собственной кровати, разумеется…
Мыла его, Зигмунда, каждый день — вопреки всем существующим собачьим нормам и правилам. Гладила, расчесывала, вычесывала. Пыхтела, высунув язык. Бегала за Зигмундом, играясь, на четвереньках по квартире… Била его. Испытывая жалость, возбуждение и что-то похожее, наверное, на зарождающуюся страсть, что-то похожее. Отдавала без пауз и перерывов несчастной собачке указания и приказания… Дрессировала. Следовала точно за инструктором, нога в ногу, рука в руку, ресница в ресницу, когда тот занимался собакой. Инструктор гнал Веру, а она не уходила. Материлась, сопротивлялась, но не уходила…
Инструктор по этому поводу напивался каждый вечер. А напившись, разглядывал тоскливо в бинокль хорошеньких девиц из соседнего с его домом общежития МГУ…
Гуляла с Зигмундом дозированно, десять минут утром и вечером. С поводка не отпускала. Ревновала его к другим собакам, особенно сучкам, и к их хозяевам, особенно женщинам. На собачьей площадке не появлялась. Когда видела на улице собаку, с хозяином или без хозяина, неважно, бежала от той собаки опрометью прочь и тащила за собой, понятное дело, и своего встревоженного и недоумевающего Зигмунда. Когда кто-то пристально и с удовольствием смотрел на Зигмунда, едва сдерживалась, кипятясь и негодуя, чтобы не перепахать этому отвратительному кому-то кирпичом по его или по ее подленькой и похотливенькой физиономии.
«Ты мой, мой, мой! — шептала в ухо Зигмунду, обняв его, сидя на диване, перед телевизором, вечером, каждым вечером, силой лишая его возможности отойти от нее, заставляя его сидеть, лежать рядом с ней столько, сколько она, и только она, захочет. Била его по морде, по затылку, по загривку, если он вдруг порывался подняться, спрыгнуть на пол или отползти в сторону. — Мой, мой, мой! Только мой и больше ничей! Ты мой раб! Ты моя собственность! Ты единственное в этом мире, что принадлежит только мне! Ты единственный в этом мире, кто принадлежит только мне! Я захочу, буду кормить тебя, а захочу, уморю тебя голодом. Захочу, оставлю тебе жизнь и подарю тебе радость. А пожелаю, заставлю тебя мучиться или лишу тебя жизни, твоей никчемной, пустой, маленькой жизни…»
Раздевалась перед Зигмундом, пританцовывая и кривляясь, то есть изображая вроде как (и все это серьезно, серьезно) эротическую боль или предвкушение сексуального наслаждения, топырила глаза — веки краснели, брови пульсировали, — прыгала языком по зубам и по губам, докладывая, видимо, таким образом о своей полной готовности, мастурбировала, кричала, улетая вместе с оргазмом куда-то далеко, но, судя по всему, ненадолго…
Зигмунд реагировал на представление вяло, наклонял голову то влево, то вправо недоуменно, встряхивал ушами, сопел, гортанно хрипел, чуть сдавленно, словно пытаясь что-то сказать, а потом укладывал морду на передние лапы и печально принимался разглядывать пол, вздыхал, скучал… В самый важный и ответственный для Веры момент засыпал… То есть не видел исхода. Стервец! Не наблюдал, подлец, за самым приятным и сокровенным…
Был несколько раз жестоко избит за это, то есть за свое равнодушие, естественное или показное, неважно. На боль не отвечал. Не мог. Был не в состоянии. Может быть, только и мечтал об этом, но не мог. Может быть, и желал этого единственно — ответить, но был не в состоянии. Веками вырабатывался в его породе ген доброты и благожелательности. Папа с мамой его слыли патологическими добряками и весельчаками. И бабушки с дедушками рождались такими же тоже. И прабабушки, и прадедушки. И прапрабабушки, и прапрадедушки. И дальше, и больше, и раньше, и глубже…