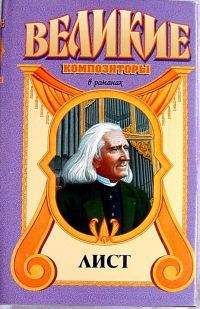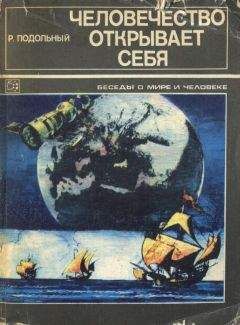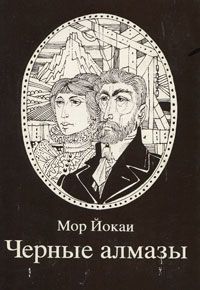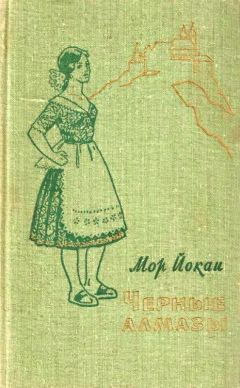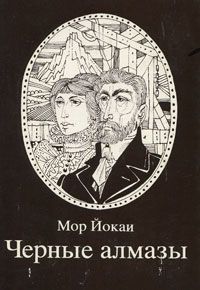Дёрдь Конрад - Соучастник
У В. в пяти кварталах отсюда, в районе, пока занятом немцами, живет — если живет еще — пожилая мать. В одном из доходных домов Кольца, на явочной квартире у Д., нас ждут члены подпольного будапештского горкома; на нас обоих — советские офицерские шинели: В. — полковник, я — капитан; мы привезли инструкции от командования армии и московской партгруппы, в вещмешке у меня — хлеб, сало, водка, шоколад. Во взломанном парфюмерном магазинчике сидят на прилавке два курносых завоевателя, икают, исторгая аромат пряных вечерних духов, и сверяют время: на запястьях у обоих — по несколько пар наручных часов. «Ребята, не оскорбляйте без необходимости чувства венгерского народа», — говорю я библейским тоном. «Товарищ капитан, золотце вы наше, ну скажите, есть справедливость на этой земле? Сорок дней я за этот город сражался, а что получил? Триппер я получил от венгерского народа».
Дом, словно кожа больного скарлатиной, весь в выбоинах от автоматных очередей; с галереи пятого этажа маленькая взлохмаченная женщина сбрасывает во двор елку, с которой осыпалась почти вся хвоя. «И какой же подарок на ней висел?» — спрашиваю я, глядя на голые веточки. «Сыночка моего фото. Человек один в кожаной куртке хотел его застрелить, потому что он в очках и волосы у него рыжие. Потом махнул рукой и не стал убивать». «Меня дяди, которые с пистолетом и с повязкой на рукаве, все время застрелить хотят», — хвастливо кричит из прихожей мальчик; оказывается, он к тому же еще и веснушчатый. «Хочешь шоколадку?» — спрашиваю я. Он придирчиво рассматривает меня: «Пистолет у тебя тоже есть, а вот повязки нет». «Подождите-ка, — окликает нас женщина, когда мы уже уходим. — Вон в той квартире, напротив, живет одна, ну, в общем, курва. У нее человек прячется, который многих убил». Я стучу в дверь; в кухне стирает белье женщина с дряблыми щеками. В комнате молодой человек раздувает дымящуюся печурку и жует дольку чеснока. «Наесться им не наешься, а голод заглушает», — объясняет он доброжелательно. «Оружие есть?» «Вон под подушкой, забирайте». «А в этой коробке что?» «А вы откройте». Отрезанные пальцы, мужские, женские, на каждом перстень, иные с драгоценными камнями. «Это ваша коллекция?» «Была моя, теперь — ваша». «Скольких же вы убили?» «Я не считал. Свояк вталкивал их по одному в спортзал, а я стоял на коне и сверху бил их по голове топором». «Вы что, так сильно их ненавидели?» «Чего мне их ненавидеть? Зять говорил: бей, я и бил». «А с этим вы что собирались делать?» «Думал, дождусь, пока война кончится, и открою небольшую кондитерскую. Что со мной теперь будет?» «Я вас застрелю». «Без суда?» «Без суда». «Выходит, просто убьете, как мы?» «Да, просто убью». «Лучше давайте я спрыгну отсюда, с пятого этажа». «Прыгайте». «Можно попрощаться?» «Можно». Он целует женщину, перекидывает одну ногу через перила галереи, но прыгать не спешит, улыбается застенчиво: «Страшно». «Верю. Ничего, я помогу». Я стреляю ему в голову, смотрю вниз: темное пятно волос, вокруг, на камнях двора, посыпанных поверх ледяной корки печной золой, розовеет разлетевшийся мозг. С галерей на всех этажах устремлены вниз сощуренные глаза. Женщина с дряблым лицом плачет беззвучно; зубов у нее почти нет. «А с этим что?» — протягивает она коробку. Я высыпаю содержимое в пустоту. Жильцы спускаются во двор собирать пальцы с перстнями. До сих пор я стрелял только в вооруженных людей, а это было настоящее убийство; поскольку я и сегодня поступил бы точно так же, прощения на это мне нет. На процессы народных судов я не ходил ни разу, месть с этого времени больше не волновала меня.
2Лысый череп Д., небритые мужчины, изможденные женщины. Окно завешано одеялом, на столе — масляная лампада, на плите варится фасоль. Мы здороваемся, обнимаемся. В.: «А почему щетина, товарищи? Это что, траур по случаю освобождения?» Его добродушный юмор в духе богатого дядюшки улыбок у собравшихся не вызывает. К., первый секретарь ЦК венгерской компартии: «Вы лучше объясните, почему опоздали на полтора часа? У нас в подполье такое не было принято. Ты свидетель», — кивает он в мою сторону. В.: «Видите ли, товарищи, дело в том, что на пути из Москвы в Будапешт много было всяких препятствий. А ваши нелегальные листовки, хотя идейное содержание там — не подкопаешься, маловато немецких танков убрали с нашей дороги». «Вы-то лично сколько танков подбили?» — интересуется К. «Я? Танков? Я даже зайца ни одного не подбил, — сияет В. — Не могу видеть кровь. А есть такие, кто переносит прекрасно». Он смотрит на меня; сначала он, за ним все остальные. Невдалеке ухает немецкая мина; я выкладываю на стол сало, ставлю водку, раздаю несколько револьверов. «Скоро я этот мундир сниму», — обращаясь к Д., зачем-то говорю я. «Неплохая одежка», — задумчиво говорит Д., попыхивая трубкой. «Неплохая-то неплохая, но я человек штатский». «Видел я, какой ты штатский, когда ты сюда шел», — говорит Д. таким тоном, словно хочет внести ясность в какой-то запутанный вопрос. «Я бы его под трибунал мог за это отдать», — бросает В. и, желая, видимо, сменить тему, принимается рассказывать какой-то коминтерновский анекдот. «Я — человек штатский», — упрямо повторяю я. «А я считаю, мы все — солдаты. Даже те, кому этот маленький инструмент, за который большое спасибо, не нужен, — как, например, мне. Собрались мы здесь для того, чтобы получить новые назначения. Сейчас В. зачитает приказ, а мы ответим: так точно. И заметьте: В. не от своего имени этот приказ огласит», — говорит Д. «Ты хочешь сказать: солдаты свободы?» — с некоторым опозданием отвечает ему В.; выйдя из облака густого аромата — на сковородке жарится сало с луком, — он поднимает над головой бутылку водки. «Разумеется», — говорит Д., убирая трубку в карман. Я сидел с ним дважды по пять лет, во второй раз — после 1956 года, сначала в одном коридоре, потом в одной камере. Каждый день он подставлял мне задницу, чтобы я сделал ему клизму. Рак прямой кишки у меня, объяснял он бесстрастно. Он мечтал еще хоть разок зайти в кондитерскую «Жербо», заказать калачик с гусиной печенкой и с бокалом токайского, посидеть в компании одной драматической актрисы, дамы уже не совсем молодой, но с очень тонкой улыбкой. «Этому уже не бывать», — говорил он, погружаясь в себя. Потом принимался излагать теорию о средневековой системе земельного права в России. После его объяснений нам вроде бы становилось чуть-чуть понятнее, почему мы угодили за решетку. Мы включали чудом уцелевший после всех шмонов приемник, собранный из ворованных деталей бывшими членами рабочих комитетов, и внимательно слушали: вдруг скажут что-нибудь, что позволит надеяться на скорую амнистию. После того, как нас выпустили, мечта Д. о калачике с гусиной печенкой и с драматической актрисой осуществилась, и не однажды. Но в тот день, на Кольце, снова среди своих, мы с большим удовольствием уплетали простую вареную фасоль, приправленную жареным салом с луком.
3«Ты будешь секретарь будапештского горкома», — сказал В., посмотрев на К. Ты — бургомистр, ты — вице-бургомистр, ты — такой-то министр, ты — такой-то госсекретарь. Названия руководящих должностей порхают в воздухе; В. словно леденцы раздает детишкам. «Ваши высокопревосходительства, позвольте ахнуть за ваше драгоценное здоровье!» — поднимаю я стакан с водкой, глядя на новоиспеченных государственных мужей, с трудом приходящих в себя. «А кто у нас будет шеф полиции?» — спрашивает В., который спустя всего лишь год, с неведомо откуда взявшимся в нем коварным хитроумием главаря рыночной мафии, руководит восстановлением национальной экономики; еще четыре года спустя каждое утро поглаживает себя по горлу: смотри-ка, все еще нет веревки на шее, — и в должности директора шахты в маленьком городке, посреди танцевального зала, в воздвигнутом, как по мановению волшебной палочки, дворце культуры, прыгает и дурачится перед оркестром, раскрасневшийся под фатой из конфетти, словно пустившаяся во все тяжкие новобрачная, и самозабвенно грохает в медные тарелки; а через одиннадцать лет, уныло подперши локтями голову под роялем в югославском посольстве, где получил ненадежное политическое убежище, молится богу своих отцов, чтобы тот уберег его от — опять-таки вытанцовывающего к петле — гонорара за еще одно недолгое пребывание в министерском кресле, и клянется, что уж теперь-то не будет соглашаться ни на какие соблазнительные предложения; через тридцать же лет, сидя за карточным столиком в закрытом клубе, снова расскажет друзьям-актерам, какими анекдотами он смешил в свое время Ленина, Сталина и Мао Цзэдуна, затем, уже в роли непризнанного писателя, с многозначительной жеманностью сообщит, что его мемуары, за которые правительство, только чтобы он не передавал их для публикации за рубеж, заплатило ему виллой в престижном районе, — так вот, мемуары эти в прошлом месяце, во время очередного обыска, полиция конфисковала до последней страницы. На что один из застольных собеседников, барин-литератор, глядя в коньячную рюмку, спросил: «Слушай, ты, коммунист хренов, до тебя так и не доехало за тридцать лет, что уж если ты пишешь мемуары, то один экземпляр рукописи надо обязательно держать где-нибудь вне дома, в другом месте?» В. — ему как раз пришла хорошая карта — сквозь сигарный дым посылает писателю лучезарную улыбку: «Слушай, ты, буржуй хренов, до тебя так и не доехало за тридцать лет, что коммунисты всегда врут?» А в тот достопамятный день, захмелевший от торжественного ужина, водки и пафоса революционного триумфа, на вопрос, кто же будет шефом полиции, он видит в углу комнаты лишь два поднятых пальчика. Словно робкий школьник поднял руку для ответа: полтора метра ростом, лысенький, с жиденькими усишками человечек. «Тебя как зовут?» — спрашивает В.; человечек тихо произносит имя, фамилию; В. растерянно оглядывает собравшихся. Г. — проворный еврей-портняжка, звезд с неба он никогда не хватал, но заурядная внешность помогала ему ускользать от внимания сыщиков. В полицейской мифологии революционер — человек более необычный, более взлохмаченный, что ли. Г. же на вид — точно как они, только ростом ниже. Когда надо было найти новую явку или перевезти ручной печатный станок, более подходящего человека трудно было найти. Если кто-то из подпольщиков задавал странные вопросы, вислый нос Г. чуял в нем свежезавербованного осведомителя и, получив согласие вышестоящих товарищей, Г. быстро организовывал изоляцию подозреваемого. Ум его, лишенный всякой яркости и оригинальности, к тому же недоверчивый и угрюмый, идеально годился для конспиративной работы. За годы подполья он ни разу не попал в полицию; правда, побывавших там он подробно выспрашивал. Приемы сыскной работы интересовали его, как шахматы или рыбная ловля. Мы чувствовали: профессия ищейки — это для него. Никто из нас упорнее, чем он, не разыскивал военных преступников; кстати, у нас и большой охоты к этому не было. Несостоявшиеся поэты или ученые, мы мечтали редактировать газету; все друзья завидовали мне: ведь в моем ведении находилось радио. В общем, мы были большими ослами; как, впрочем, и буржуазные политики, которые спали и видели во сне кресло комиссара по бесхозному имуществу, а ведомство внутренних дел легко уступили нам. «Товарищ Г. будет таким же образцовым полицейским, как и партийным работником», — сказал К. немного туманно. «Да, его сам бог сотворил шефом полиции», — доброжелательно кивнул Д. «Он хочет, другие не хотят, вот пускай и будет», — пробормотал X. И снисходительно потрепал Г. по макушке: «Только не зазнавайся гляди». «Стало быть, ты и будешь шефом полиции», — определил В. мрачный наш будущий удел.