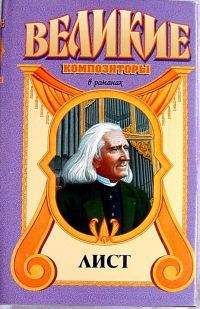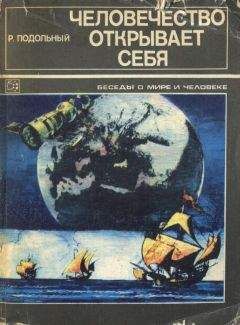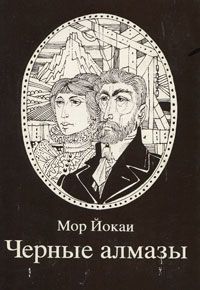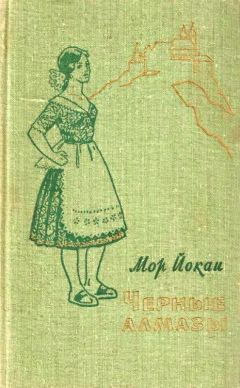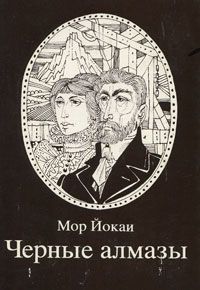Дёрдь Конрад - Соучастник
Широколицые солдаты из крестьян смотрят на растрепанных женщин, на руках у которых — укутанные в одеяло дети. Старуха в теплом платке, с опущенными к земле глазами, прижимает к груди деревянное корыто, я бросаюсь ей помочь: может, там ее внук или внучка, — нет, я ошибся: там — рука, оторванная выше запястья. Это самый большой кусок, оставшийся от ее мужа. Следом за старухой бредет — словно родственница в трауре — корова с пустым выменем. На спине у коровы привязано драное одеяло, порывы ветра вытягивают из дыр пучки гусиного пуха. На желтой подстилке опавших листьев, на вьющихся по склону горы тропинках, по колено в ручье, взбитом пулеметными очередями с истребителя, — всюду дрожат люди, сбежавшие из неопределенности в новую неопределенность. С самолета я сбрасываю на головы им белые рои листовок; прочитав их, они идут дальше; может, завтра они остановятся все-таки. Если с этого дня по булыжнику мостовой, замусоренной воловьим навозом, будут трястись на мотоциклах патрули в мундирах другого цвета, — что ж, они выдержат. Но, Господи Иисусе, скорей бы уже через них, мимо них прошла, прокатилась эта нескончаемая армия! Идет дождь, штаны на ногах грязные и драные, портянки — цвета глины; мужчины с ноющими ногами, с серыми, как лед, взглядами тащатся и тащатся через город в расстегнутых гимнастерках, по щиколотку в пыли. Угрюмо смотрят на осыпавшиеся на тротуар обломки стен, единственное осязаемое объяснение отсутствия их павших товарищей.
Их двойники, замаскированные зелеными ветками, морщинистые, с вислыми усами, колышутся в шеренгах пленных и сопровождающего пленных конвоя. В мыслях у них — лишь котелок с капустой и жирным мясом, греющий бок, да соломенный тюфяк; они будут еще много стрелять; стыд у них уже позади. Они закалывали штыком поросенка, выкапывали из тайников вино, мед, сало, срывали со стульев обивку, кованым каблуком сапога дробили фонарь, толпились с наволочками под окном, стреляли в цель по стеклянным банкам, гусиными яйцами, вынутыми из-под наседки, красили в желтый цвет стены, покачиваясь на садовых качелях, ручной гранатой обезглавливали голубятню, выгибали, подставляя под нож, горло заблеявшей в подполе козы; задумчиво поглядев на хозяина, вышедшего к ним с колбасой и вином, показывали на его сапоги: ну-ка, снимай поскорее, — и махали ему: мол, побудь пока на дворе, мы там пока полежим, отдохнем, — и тянули за собой улыбающуюся с натянутой любезностью хозяйку: сейчас кстати будет теплая плоть. Если не хочет, чтобы юбку содрали, пусть сама снимет по-хорошему, ничего, у нее не убудет, мужу тоже останется, а пока тот пускай зажмет уши и посидит в конюшне. Смерть была рядом с ними уже не меньше, чем шестьдесят шесть раз, неужели не заработали они право на небольшую радость; кто там следующий, снимай штаны. Хозяйка выгибается на постели, мотает головой: может, и вовсе не только от отвращения. По дороге на запад один из солдат прошел через свою деревню. Жило там триста семей, сейчас из снега торчат триста печных труб. Избы сгорели; сгорели, в ходе карательной операции, и семьи, запертые в церкви. В родной деревне другого солдата каратели, мои соотечественники, пожалели пуль, а может, не захотели шум поднимать, чтобы партизаны не свалились на голову. Каждую ночь они собирали по сотне подозрительных мужиков, приводили в сельсовет и по одному вталкивали в зал заседаний. А тут их встречали трое солдат с топорами, и четвертый, овечий пастух, который мечтал о собственной отаре, и пятый, дамский парикмахер, у которого в планах был свой салон в столице: этот щипцами выдирал золотые зубы. В лагере сотоварищи выдали дамского парикмахера, десять пуль в сердце, в кармане у него я нашел блокнот в клеточку, мечты о популярном столичном салоне, где в полированном зеркале встречаются понимающе взгляды дам и взгляд мастера.
26Я знаю, кто идет следом за нами. В первом эшелоне, естественно, хорошо обученные кадровые части, солдаты, которым выдают полный котелок риса с мясом и теплые полушубки и которые, если не упадут, скошенные пулей, будут бежать и бежать вперед. А потом — отбракованный, пригодный только для оккупации сброд; эти собирают на своих возах груды всякого барахла, от женских ночных рубашек до клеток для попугая, и с пьяными криками погоняют своих кляч, давно созревших для бойни; у иных под кнутом вопят кусачие ослы, флегматично бредут каталептические волы. На головах у этих сюрреалистических персонажей — тюрбаны из дамаскиновых скатертей, волшебные цилиндры, украденные в цирке. Чья-то рука, вся, от локтя до запястья, в браслетах, треплет шею капризной козы, которая не трясется и не причитает от страха, как крестьянки, да и удобнее для самоудовлетворения, вот только триппер где-то схватила в процессе коллективного обслуживания. На шее у такого вояки — золотая цепь со множеством побрякушек: тут и золотой крестик, и шестиконечная звезда, и медальон в форме сердца с фотографией какого-то чужого мальчика. Между возами идет бойкий обмен: зажигалка и самописка за фотоаппарат, фарфоровый лебедь за балерину с мандолиной; казах-пастух во фраке с манишкой обмахивается в февральской метели китайским веером. Профессиональные воры утешают трофейную барышню с замурзанными от слез щеками, со скошенным подбородком: кто губной гармошкой, кто пахучей туалетной водой, кто чесночной колбасой и леденцами. «Вот тебе, лапочка, каракулевая шуба. Эх, дурашка, что ж ты человеческого языка-то не понимаешь? Ну конечно, мама, мама! Ты тоже мама будешь, погоди. Только сначала поездим по белу свету, посмотрим, какие в нем чудеса есть. На вот, это утиный жир, помажь себе, чтоб не больно было». Из отделения их осталось четверо, четверо друзей до гробовой доски; один держит на коленях голову барышни, двое — ноги, четвертый спускает штаны до голенищ кирзовых сапог. Нашелся даже брезент — сделать навес над повозкой. Под навес заглядывает старший сержант с седеющими усами: «Тьфу на вас, басурманы, хоть бы помыли друг после друга! Ну, девка, эти разбойники пузо тебе вздуют». Когда колонна застревает, пестрое воинство рассыпается по заснеженному полю; обозники, греясь, пляшут вприсядку.
Выбирается из своей телеги, забитой копченым салом и самосадом, и карнавальный герцог, у которого после контузии мозги съехали с катушек; широко улыбаясь беззубым ртом, ухая, ахая, тоже идет вприсядку среди почерневших подсолнечных бутылей. В следующей деревне он входит в первый попавшийся двор, требует бабу и палинки, жует лук, высасывает из скорлупы сырое яйцо, берет на руки младенца, вытаскивает из печи испачканную сажей старуху, снегом оттирает ей щеки, сердится, что она так себя изуродовала, стреляет в винную бочку, наполняет вином сумку противогаза, ощерив беззубый рот над колодцем, блюет туда, обнимает хозяина, рассказывает тому, что дома оставил точь-в-точь такого сына, была у него и кошка, как, должно быть, плачет сейчас по нему, дай мне, братишка, какую-нибудь простыню, портянки к черту сопрели, а кто это там в подполье шевелится, Гитлера прячешь там, мерзавец, нет Гитлера, теленок, а-а, жалко, что застрелил, ну, раз уж так вышло, клади его сюда, на телегу, мы ведь вам не враги, ну, мы поехали, нет, браток, не уговаривай, не останемся, дай поцелую тебя на прощанье; и везет дальше своих шлюх и свой триппер, везет дальше своих вшей и свой тиф. Сидят на крыше вагона с углем перепуганные путники, солдатам нужно немного угля, нужны им и сигареты, но языковой барьер вносит сумятицу в масштаб явлений, людей сгоняют с вагона, обшаривают у них карманы. Отцепляют от тронувшегося состава паровоз, поджигают буржуйские книги, в китайской вазе дают овса лошадям, пририсовывают усы деревянной мадонне, увозят мужика чуть-чуть, всего-то до соседней деревни, всего-то до соседнего города, всего-то немножко подальше, за Урал, всего на один часок, всего на четыре годика, всего на голодную смерть, увозят, отрывая от рукояток плуга, а если увезут пахаря, то чего оставлять на пашне лошадь? Но и сами они на главной улице городка раздают всем проходящим детишкам желтый сахар, разрешают набить карманы: только что взломали ворота сахарного завода; а если задержатся в доме на день-другой, делают ребятишкам рогатки, выстругивают игрушки из дерева, дров наколют, починят забор, добудут откуда-то кирпичей, подлатают поврежденную снарядом дымовую трубу, заложат пробоины в стене дома; кто знает, может, их женам, там, вдалеке, кто-нибудь вот так же поправит крыльцо или крышу. И всегда среди них находится человек постарше, кто подзатыльником усмирит молокососов, гоняющихся за поросенком, из амбара крепкого мужика отнесет мешок муки на бедняцкий конец; и находится какой-нибудь усатый ефрейтор, который оставит у мужика реквизированного коня взамен уведенного другим усатым ефрейтором. И пышке Гизи не на что жаловаться: ну да, это правда, она в одном платьишке стояла летним вечером у ворот, когда возле нее притормозил вдруг мотоцикл с коляской, и солдатик потоньше, сидевший в коляске, не говоря ни худого, ни хорошего, подхватил ее и посадил себе на колени. А второй дал газ, и она даже с родителями не попрощалась. Зато сколько радости было год спустя, во время сбора винограда, когда у тех же ворот остановился тот же самый мотоцикл с коляской, и тот же худенький русский, плача, высадил Гизи, а рядом с ней поставил корзину с дитем и чемодан, в котором, вместе с пеленками, лежала куча золотых браслетов, потом сел в коляску, а второй, тоже со слезами на глазах, вдавил педаль газа. Ты где была, Гизи, раскрыли рты родители, а Гизи не могла остановиться, все рассказывала свои приключения на дорогах чуть ли не половины Европы и, ложась спать, немного всплакнула, вспоминая ласковых своих мужей.