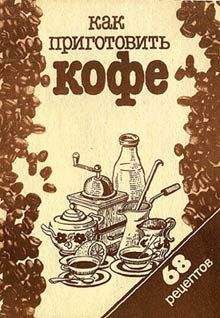Ирина Муравьева - Портрет Алтовити
Ну, вот и он, наконец.
Быстро, значит, ее ублажил и вот, смотрите, уже идет обратно. Лицо у него какое-то воспаленное, сумасшедшее. Полеты во сне и наяву. Был такой фильм. Он чуть было не снялся в главной роли. В последний момент пригласили, конечно, Янковского.
Елене пришло в голову, что если бы тогда, в восьмидесятом или восемьдесят первом, когда снимался этот фильм, кто-нибудь сказал ей, что она будет караулить своего Томаса, сидя на корточках под замороженным заснеженным детским грибом, выслеживать родного мужа, сбежавшего от нее к любовнице, она бы расхохоталась в лицо сказавшему, даже и не стала бы слушать! Ведь тогда у них у самих была любовь. Со страстями, с размолвками, со сладкими примирениями.
Полеты во сне. И наяву – полеты.
Что это он такой несчастный выскочил? Никак поругались? Елене даже обидно стало. Нет, уж пусть у вас все будет как в раю, пусть. Напоследок-то. Из рая-то страшнее когда выгоняют. Лететь далеко, к черту на рога, вверх тормашками.
Она и сама не знала, как лучше поступить. Вот он уже за угол повернул. Может, догнать все-таки? Плюнуть еще раз – уж теперь попаду, не промахнусь! – в подлые глаза? А может, не надо? Уж сколько высидела, еще посижу, авось и та выйдет!
Должна же быть на свете справедливость!
…Что-то она все бормотала и бормотала, и сама с собой жестикулировала, смеялась, хмурилась. Хорошо, что никто не видел, приняли бы за помешанную. А ведь это от боли-и-и-и-и! Ведь жили же мы, и все хорошо, так за что он меня так, за что? Ах, не нравлюсь я вам, да? Некрасивое у меня поведение? Пожилая, можно сказать, женщина, и – фу-у! – какая! Некрасиво! Следит, крадется, плюется! Ай-ай-ай! А вас бы всех, чистеньких, в мою шкуру! А вас бы всех в одну мою ночку пятилетней давности, когда он осторожно открывал дверь своим ключом – а уж светало, уж нормальные люди на работу вставали – и, крадучись, блестя глазами, как кот, американскими духами пахнущий, входил в дом, где дочь спала – между прочим, его ребенок! – и тихонечко, тихонечко, думая, что никто не слышит, шлепал в душ, чтобы потом улечься на свою коечку в позе зародыша! А один раз – одурел совсем! – один раз он даже засвистал под душем, запел, сволочь, африканскую народную!
А-а-ах, вас бы всех на мое место!
Дождалась. Глазам не поверила. Сердце остановилось, когда это – все-таки! – произошло.
Открылась подъездная дверь, и та вышла. В черном пальто. На голове какой-то полосатый шарф, в темных очках. Софи Лорен, да и только. С негритенком. Лет так четырех, может, поменьше. Хорошенький, в колпачке, с синей лопаткой. Вот вам и ребенок, про которого девка лохматая вчера говорила. Все совпадает. Та изменилась за пять-то лет. Подсохла. Никого время не красит.
Елена встала во весь рост, хотела быстро губы намазать, но тут же об этом и забыла, встала во весь рост и пошла через двор ей наперерез. Подошла и остановилась. Прямо перед ней.
– Блядь, – сказала Елена. – Сколько это будет продолжаться? Блядь нью-йоркская.
Ужасные какие-то слова из нее посыпались, она и не хотела их произносить, не хотела! Что она, огурцами, что ли, на рынке торгует, Господи, мой Боже? А слова эти дикие сыпятся и сыпятся, будто сглазил кто! Вот уже и голос сорвался, на визг перешла!
– Блядь, – визжала Елена, – когда ты только уберешься от нас в свою поганую Америку, сука ты сраная! Да он тебя знать не хочет, что ты опять приперлась сюда? Что тебя, метлой, что ли, гнать отсюда?
Темно перед глазами, какие-то шарфы фиолетовые. Сейчас я ее ударю. Прямо по очкам. Стыд-то какой, Господи.
Ева стояла неподвижно, шагу в сторону не сделала. Крепко держала за руку своего негритенка. Елена замахнулась на нее кулаком в варежке, но не дотронулась, так с поднятым кулаком и застыла.
– Sorry, – сказала Ева, – I don’ t know Russian, what do you want?[53]
Подхватила своего негритенка и побежала! Но не к подъезду обратно, а к арке, чтобы выскользнуть на Тверскую! Елена бросилась за ней с криком: «Нет! Нет! Блядь!» Слава Богу, что во дворе никого не было. Время дневное, зимнее, тихое. Обе оказались на улице. Елена остановилась. Не догонять же ее, в самом деле!
Ах, как она ответила, гадина! По-английски! Чтобы еще больше унизить, растереть, растоптать!
Ватными ногами добрела до заледеневших качелей. Села. Оттолкнулась от земли.
Полеты.
Еще раз оттолкнулась.
Во сне!
Еще раз.
И наяву.
* * *– Who was that? – спросил Саша, когда страшная, с поднятым кулаком, ушла обратно под арку. – What did she want from us? She is really crazy![54]
«Если бы ему было лет пять-шесть, – сгорая со стыда, подумала Ева, – он бы спросил, что она кричала мне вдогонку».
Она вся пылала под своим легким черным пальто. Ощущение стыда было таким сильным, что хотелось стать меньше ростом, проскользнуть в какую-нибудь щель, исчезнуть. От стыда она начала что-то быстро рассказывать Саше, даже смеяться, и собственный голос казался ей неправдоподобно громким, громче всего остального: автомобильных гудков, милицейской сирены…
Какие были глаза у его жены! Как она бежала через двор с высоко поднятой огромной рукавицей – как будто отделившейся ото всего остального, маленького, подпрыгивающего тела, – и как они полыхали, эти глаза, – красным, фиолетово-красным огнем!
Если бы можно было сейчас же, немедленно оказаться в самолете, и больше никогда…
Все.
Садовая, дом четыре, квартира четыре. Раз обещала, нужно зайти и взять то, что просили. Передать сыну. Хотя, может быть, Арсений уже обо всем этом забыл: и о том, что позвонил ей, и о том, что попросил что-то передать…
Во дворе пахло кислой капустой. А, это потому, что во двор открыта задняя, маленькая дверь овощного магазина. Две лысые нищие кошки с жадностью поедали что-то, сидя на крышке помойного бака. На лавочке посреди двора чернели старухи – закутанные в платки и абсолютно неподвижные, словно примерзшие, с тусклыми мертвыми глазами, которые они одинаково недовольно вылупили сначала на Сашу, потом на Еву, и одна старуха зашипела что-то нечленораздельное.
Идти надо было вниз, в подвал. Темно, лампочки выбиты. Дверь, обитая рваным войлоком, на войлоке мелом нацарапана цифра 4. Значит, сюда.
– Sasha, are you scared? You are not![55]
В ноздри ударил запах мочи. Арсений стоял на пороге очень большой комнаты, сплошь заставленной скульптурами. Большинство из них было закрыто белыми вафельными полотенцами и простынями. Кусок рваной простыни наполовину закрывал и окно, выходившее прямо на подножие сугроба. Сугроб заслонял собою землю и небо. Он сам был гипсовым слепком зимы, ее ледяным, неподвижным лицом, денно и нощно смотрящим в комнату.
– А, п-п-пришли все-таки, – старательно выговорил Арсений, – я извиняюсь за этот нетворческий бардак… П-п-проходите.
В углу комнаты стоял небольшой стол, на котором ничего не было, кроме наполовину выпитой бутылки с водкой и толстой книги со множеством закладок. Пол был завален окурками, кусками проволоки, камнями, перепачканными гипсом газетами.
– А тебе я, детеныш, тоже найду занятие, – сказал Арсений Саше, который ничуть не испугался в незнакомой обстановке, а, напротив, оглядывался с любопытством. – Ты у меня б-б-будешь лепить. Раздевайтесь, здесь т-т-епло.
Ева расстегнула на Саше курточку. Арсений, слегка покачнувшись, вышел в крошечную кухню, из которой торчал кусок раковины, полной грязной посуды, и вернулся с большим обшарпанным тазом. В тазу лежал разноцветный пластилин, цветные карандаши и листы плотной серой бумаги.
– В-в-вот садись, – сказал Арсений, – это мы уберем, – он поставил на пол, к батарее, бутылку с водкой, – рисуй здесь или лепи. Я тебе п-покажу как. Хочешь зайца?
– Fish is better, – ответил Саша. – Can it be a fish?[56]
– В-в-ы п-п-одумайте, – усмехнулся Арсений, – понял ведь меня, а отвечает по-своему. Вот так и мы все. Отвечаем по-своему. Даже если слышим. А не слышим, так и вообще – и-и-и! – Махнул рукой и опять слегка покачнулся.
Ева пожалела, что пришла. В комнате было грязно. Сильно пахло мочой откуда-то из угла. Неприятно было даже снять пальто, сесть на один из запорошенных белой гипсовой пылью стульев… Лицо у Арсения было под стать этой белизне, неряшливости, измятости, черные тени лежали под глазами. За несколько дней, что они не виделись, он густо оброс седыми волосами, и весь его выразительный, как раньше казалось Еве, породистый облик потускнел и вызывал жалость.
– Я улетаю, – сказала она, – что вы хотели передать?
– Улетаете? – переспросил Арсений. – Т-т-тоже красиво. Тогда я вам кое-что расскажу. Но не сейчас. Сейчас я слеплю рыбу.
Он вынул из таза большой кусок черного пластилина, размял его своими слегка дрожащими напряженными пальцами и за несколько секунд слепил тонкое костлявое рыбье туловище, потом насадил на голову большие желтые глаза с остановившимися зрачками.
– Is she alive? – спросил Саша. – I didn’t want the dead one. I wanted this fish, Eva. – Он показал на Еву маленьким темным пальцем и хитро улыбнулся: – Do you know that she is a fish?[57]