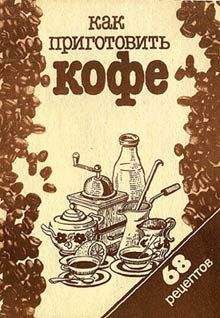Ирина Муравьева - Портрет Алтовити
Седые волосы дыбом стояли над его выпуклым открытым лбом, и, слушая то, что он говорит, она вдруг вспомнила, что именно лоб его, мощный, открытый и красивый, так запомнился ей с их первой встречи.
– Я не хочу ссориться, – успокаиваясь, пробормотал он. – Я любил тебя всегда и люблю, но никогда не трогай того, что я делаю, никогда не смейся надо мной, и…
– Помнишь? – вдруг перебила она и вытянула вперед руки, словно отталкивая то, что он говорит. – Где же это было? Да, в Эстонии. Помнишь, мы ездили на три дня в Эстонию? В августе, кажется, да? Стояли у моря, вечером, и наши тени лежали перед нами на песке? Ну, помнишь ты или нет?
– Помню. Их слизывала вода, был прилив.
– Да! – Она обеими руками рывком подняла наверх волосы. – Мы с тобой стояли и смотрели, как сначала вода съела наши головы, потом плечи, потом руки. Помнишь, как нас смыло?
– Я пойду. – Он вскочил. – Завтра, когда Саша ляжет спать, после спектакля, мы все обсудим.
– А нечего. Что нам обсуждать? Завтра я закажу билеты.
Тень какая-то пробежала по его лицу. Она с жадностью всмотрелась. Что? Обрадовался?
– Люби-и-имая моя, – выдохнул он, – люби-и-имая! Ты понимаешь, что, если бы я мог, я бы никуда не отпустил тебя? Понимаешь ты это?!
– Давай только не будем ничего решать, – заплакав, забормотала она. – Я уеду сейчас, отвезу Сашу, а потом мы придумаем, как нам…
И не закончила, потому что телефон, зазвонивший над ухом, заставил ее вздрогнуть и торопливо снять трубку.
– А вы знаете, Ева, – сказал ей ласковый, запинающийся голос Арсения, – я, кажется, слегка п-п-помираю, и мне бы хотелось, чтобы вы зашли. Потому что, если можно, я бы вас нагрузил одним маленьким порученьицем. Мой сын все-таки проживает от вас н-н-неподалеку, а я ему хотел бы кое-что передать. Извините, конечно, звучит сентиментально, но все мы немножко лошади. Н-н-ничего, что я с нахальной просьбой?
– Что передать?
– Ну, вот поэтому я и п-п-позвонил, – старательно продолжал Арсений. – По п-п-почте не пошлешь. Одну безделицу, честно говоря. На память от плохого п-а-п-паши. Кто его знает… может, ему когда-нибудь это будет, так сказать, небезразлично.
– Ну, так принесите.
Томас начал медленно застегивать куртку.
– Да не получится, – с ласковым недоумением пробормотал Арсений, – не добраться мне до вас, дорогая. Ослабел. Чуть было к-к-концы не отдал.
– Вам что, так плохо?
– Непонятно мне. То очень хорошо, то совсем п-п-плохо. Но дойти до вас – не дойду, это точно. Хотя вы от меня в двух шагах. Где П-п-патриаршие пруды, знаете? Садовая, дом четыре, квартира четыре. «Квартира» – это, правда, не совсем верно. Подвал. Подвал номер четыре. Лестница, к сожалению, темновата, зато никакого кода не нужно. Вход со двора. П-п-придете?
– Через час, – сказала она, как всегда успокаиваясь от его ласкового голоса. – Что вам принести?
Он осторожно засмеялся.
– Я пережил свои желанья, я разлюбил свои мечты… Себя п-п-ринесите.
– Кто это? – мрачно спросил Томас.
– Племянник старухи, которую ты видел. Я с ними встречала Новый год. Скульптор.
– Ты, я надеюсь, пошутила, что пойдешь к нему домой?
– Почему пошутила?
– Да ведь он же пьян, я слышал! Он же лыка не вяжет! Куда ты пойдешь с ребенком?
– Он всегда пьян. Что он мне сделает?
– Ева, а ведь ты тоже… – Он посмотрел на нее с какой-то отстраненной жалостью. – Ты ведь тоже… Искательница острых ощущений. Иначе зачем тебе все это?
– Что это?
– Ну, это. Мужчины. Пьяные. Племянники старухи. Все эти драмы вокруг тебя, страсти. Инфаркты, запои. Почему ты не можешь пожить тихо? Все время это бурление, нервотрепки… Может, я не должен тебе этого говорить…
– Может, и не должен, – пробормотала она, раздувая ноздри. – Но раз уж начал, говори.
– Я никогда не был до конца уверен в том, что ты мне верна. Только не возражай, не возражай мне! Я же не говорю, что ты меня не любишь или мало любишь. Но если я сегодня узнаю, что ты за эти два года с кем-то спала или кому-то заморочила голову, я и не удивлюсь особенно сильно. Потому что это в тебе сидит, это твоя природа, и я всегда ее чувствовал! Более того! – Он поднял руку, заставляя ее замолчать, хотя она не произнесла ни слова. – Более того! Я, может быть, и сам купился на эту твою природу! Может, это и есть главный наркотик, который меня к тебе приклеил, не знаю! Но если ты думаешь, что я хочу тебя обидеть или хочу, чтобы мы – не дай Бог – расстались, искусав друг друга, как бешеные волки, то ты ничего не поняла из того, что я сказал! И тогда я должен просить у тебя прощения! Помнишь, ты все любила повторять эту строчку, ужасную, кстати, нелепую: «Быть женщиной – великий шаг, сводить с ума – геройство»? Пастернаковскую? Помнишь? Сто раз ты мне ее подсовывала по поводу и без повода!
– Чем же она такая нелепая? – с ненавистью спросила она.
– А тем, что идиотская, жестокая, вот чем! Тебе разве легче оттого, что моя жена, – Еву передернуло, – тебе легче оттого, что она чуть в дурдом не попала от нашего с тобой великого счастья? Нет? Надеюсь, что нет! Или, может быть, тебе хотелось, чтобы от твоего «геройства» я превратился в развалину? Тоже нет! К чему тогда эта патетика? Что значит «быть женщиной»? Ты сначала постарайся человеком быть!
Он замолчал, потому что Ева отвернулась и закрыла лицо руками.
– Милая моя, – пробормотал он, – ну, прости. Это ведь я защищаюсь. Мне легче обвинить тебя, тебе легче обвинить меня. А на самом деле мы с тобой просто несчастны, вот и все.
– Нет, не все, – громко сказала она и открыла лицо. – Ты угадал. Как ни странно. Так что можешь убираться к своей жене с чистой совестью. Любовник у меня есть, и я сейчас к нему возвращаюсь.
Он изо всей силы схватил ее за локти.
– А ну, повтори! Что?
– Хочешь, поклянусь?
– Поклянись!
– А имя хочешь, фамилию? Доктор Саймон Груберт, Plastic surgery[52]. Принимает и оперирует по адресу: Мэдисон, 17, Нью-Йорк…
* * *…Выскочил как ошпаренный, хлопнул дверью. Провалитесь вы все пропадом! На улице остановился, нахлобучил шапку поглубже на лоб.
…Она могла сказать правду, но могла и соврать. Какой любовник, откуда? Когда она успела?
Она наврала. Нет никакого Саймона Груберта. Это она от обиды. Нет никакого Саймона.
Отвращение поднялось в нем, дошло до горла и остановилось. Ни туда, ни сюда. Конечно, ложь. Она и раньше хотела, чтобы он ревновал ее. Зачем он сказал ей, что она искательница острых ощущений?
До чего нелепы, до чего бездарны – слова!
Чертом они придуманы, злобным чертом!
Какая разница, что сказал он, что сказала она, кто из них обидел другого страшнее и жестче? Он-то пришел, надеясь объяснить ей, что пора уезжать, потому что находиться ей в Москве теперь, когда Елена все знает, одной, с ребенком, за которым не сегодня завтра явится милиция, – опасно! Невозможно! Да, но…
Все это так, но разве меньше страхов, опасений, тупиков было тогда, когда они, на все наплевав, жили в этой же самой Москве, на глазах у его жены, ее мужа, обеих дочерей – его и ее – и ничего! И беспокоились только о том, чтобы быть вместе! Почему он тогда не боялся будущего, хотя Елена уже устроила свой самый главный – грандиозный – скандал и готовилась к следующим? Когда муж ее попал в больницу то ли с инфарктом, то ли в предынфарктном состоянии? Почему тогда он комкал подол ее юбки, целовал ее колени, руки – Томас заново увидел все это: она сидит на диване в длинной серой юбке, и он валяется у нее в ногах, именно валяется!
И просит об одном: не уезжать из Москвы!
Было такое? Было.
«Если она сейчас уедет, то мы никогда не увидимся больше, это конец», – сказал он себе, и целая жизнь, где продолжало присутствовать все, что составляло каждый день, начиная от работы и кончая большой розоватой родинкой на щеке у жены, – все это промелькнуло перед ним, слегка оцарапав глаза и не вызвав никакого другого чувства, кроме привычной тоски.
Все это – и дом, и работа, и даже успехи Лизы – имело смысл, только если она была с ним и по-прежнему любила его.
Только его, никого другого. Нет, уж пожалуйста…
Чтобы никто другой не смел…
Рот его наполнился слюной.
Она наврала про этого типа. Хотела его взбесить. Конечно, наврала. Сам виноват. Довел.
Томас вошел в автомат и набрал номер.
– Это я, – сказал он.
– Я знаю, – ответила она. – Мы с Сашей идем гулять.
– На улице потеплело, – сказал он. – Не кутай его. Гораздо теплее, чем вчера. И снег кончился.
* * *Елена так ловко пристроилась под занесенным снегом детским грибом, что он не мог заметить ее. Она уже привыкла к холоду, только ноги стали чугунными и пальцы правой ноги сильно покалывало. Чепуха. Ампутируют, в крайнем случае, как Мересьеву. Будет за ним следить с инвалидной колясочки. Дело нехитрое. Ей стало даже весело, когда она представила себе, как бойко катит за Томасом по вечерней Москве на инвалидной колясочке.