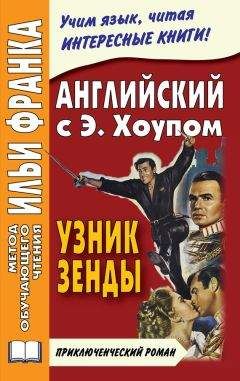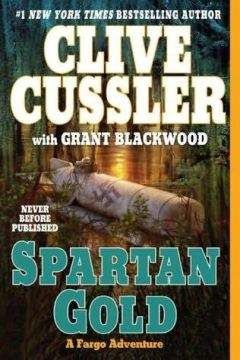Ласло Немет - Избранное
— Ах, боже мой, тоскуй не тоскуй, а жить как-то надо. Полегчает и ей когда-нибудь, только не так скоро. Уж я Панни корила: зачем ты ее накручиваешь! А сестра свое твердит: выдам Жофи замуж, и все тут. Да, конечно, как Жофика ни противится сейчас, все равно этим кончится. И пусть хоть исподволь про это думает. Я сама то и дело на что-нибудь этакое разговор навожу — пусть помнит по крайней мере, что на свете существует не только кладбище.
— Вот-вот, вы поговорите с ней, сударыня, вы ловки в таких делах. Да чужому-то оно и легче, чем матери. К чужому она как-никак прислушается, — оживилась мать, радуясь, что удалось переложить поручение на другого.
Кизела уловила оттенок облегчения на умильно заулыбавшемся лице гостьи и тотчас воспользовалась этим, чтоб ковать свое железо.
— Я говорю, говорю. Только того и желаю, чтоб настали для нашей Жофики светлые денечки. Я с ней, бедняжкой, как с дочерью… Правда, последние несколько дней мне было недосуг, каждый вечер все к почтмейстерше ходила — знаете, по делу своего сына — и в Фарнаде была у управляющего, ну а сейчас-то, слава богу, времени у меня опять побольше. Вот увидите, уж я развею тоску ее. — И она выжидательно поглядела на гостью: не поинтересуется ли она ее сыном.
Однако та как будто и не слышала про Фарнад и планы Имре. Кизеле ничего не оставалось, как выложить все самой:
— Выходила я все-таки для Имре местечко: с первого будет графским шофером. Можете представить, как я рада. Граф берет к себе только настоящих специалистов и с шофером обращается как с секретарем. Для толкового молодого человека такое место — истинная удача. Но бедный Имре мой того и заслуживает, уж такой он стал молодец в последнее время!
С минуту все молчали. Кизела со слащавой улыбкой вглядывалась гостье в лицо. Мари встала и, взяв кружку, пошла набрать воды из ведра. Ее мать старалась смотреть в сторону, чтобы над приставшей к лицу улыбкой не разглядели ее рассерженных глазок. Из кухни доносилось журчание воды, лившейся из ведра, за раскрытым окном кричала ласточка. Полагалось бы хоть что-то сказать Кизеле по поводу такой удачи — но что? К счастью, по камням галереи процокали туфли, и тут же стало слышно, как перед кухонной дверью опустили поклажу, потом что-то вроде палки стукнулось о стену, и дверь отворилась.
— Жофи пришла, — сказала мать, и обе старухи встали.
Жофи не вошла в комнату Кизелы, только открыла дверь и осталась стоять на пороге. Под мышкой она еще держала завернутую в бумагу бутылку из-под минеральной воды — обычно она поливала из нее цветы на могилке. Похудев, Жофи стала словно бы выше ростом. Сейчас, стоя в проеме двери, за которым, как разверстая пасть пещеры, чернела кухня, она показалась матери устрашающе высокой.
— Там была? — спросила мать подобострастно. Ее сразу опечалившаяся физиономия выражала сочувствие, а слово «там» вместо «на кладбище» — стремление щадить чувства дочери.
— Немного взрыхлила землю да пеларгонию высадила — теперь уже, думаю, не замерзнет.
— Долго ты! И не страшно одной? — спросила мать; легкое содрогание прошло по ее лицу: старуха боялась, не сказанула ли чего невпопад. Леденящим холодом веяло от этой Жофи, встречавшей сумерки на кладбище.
— Чего мне бояться? — У Жофи чуть дрогнули уголки губ в знак улыбки. — Привидений? Так, по мне, уж лучше с ними встречаться, чем с людьми.
— А что страшного на кладбище? — вставила и Кизела. — Только там и отдохнешь. Я вот сама думаю походить туда с Жофикой: пора и нам покойных родителей могилку в порядок привести — сестрица моя Панни не очень о ней заботилась. И Жофике не так одиноко будет, — прибавила она и чуть заметно подмигнула матери: видите, мол, как я забочусь о Жофике и как ловко подстроила, чтобы вместе на кладбище ходить. — Я уж и в воскресенье собиралась, да вот пришлось в Фарнад пойти к управляющему. Я как раз сейчас вашей милой матушке рассказывала, что уже есть место. Утром управляющий звонил почтмейстеру, что граф берет к себе Имре. Вам я не успела еще рассказать о моей радости.
На кухне грохнул стул, должно быть, Мари его задела; но в комнате ни мать, ни дочь не отозвались на сообщение Кизелы ни словом.
— А я-то! Все еще с бутылью стою, будто опять идти собралась, — пробормотала Жофи и, вынув бутыль из-под платка, стала проверять, не выскочила ли пробка; платок при этом как-то сам собой ниже надвинулся на порозовевшее лицо.
Повернувшись, она тотчас вышла и через темную кухню прошла прямо в свою комнату, где на стене еще догорал слабый отсвет заката. Мать, которая поначалу и сама рассердилась на Кизелу, сейчас испугалась: можно ли вот так взять и уйти, оставив «сударыню» с носом! В растерянности она зашаркала вслед за дочерью и, войдя к ней, неловко остановилась в дверях. Жофи стояла в полумраке комнаты возле кровати спиной к двери; в темноте чудилось, будто из черного холма кровати вырос столб или реформатский крест.
— Это вы, мама? — вздрогнув, спросила Жофи, и мать не узнала ее голоса. — Я сейчас засвечу. — Жофи подошла к столу. — Просто не знаю, Мари вечно куда-нибудь сунет спички. — Теперь это был уже голос прежней Жофи.
Мать решила, что сейчас самое время подластиться к пугающе странной дочери. Новости Кизелы рассердили Жофи — вот и она покажет, что с Жофи заодно, ей тоже не нравятся бесконечные разговоры Кизелы о сыне. И не успела Жофи зажечь лампу, мать тронула ее за локоть:
— Слушай, Жофи, и что она все лезет ко мне со своим сыном? Чего ей от нас нужно?
Искреннее порицание, естественное у крестьянки, и предательство слабой души, жаждущей подольститься, смешались с вспыхнувшим вдруг желанием матери доверительно поговорить с дочерью. Однако в этот самый миг Жофи сделала сильное движение локтем, слабая рука матери соскользнула, а сама Жофи отстранилась.
— Откуда мне знать, чего ей надо! — сказала Жофи и после минутного молчания воскликнула громко: — И чего болтать, как те старухи! Только и знаете мусолить, кто что сказал да что хотел этим сказать. Видно, у вас всего и дела что…
— Жофи, тише, услышит! — смешавшись, зашипела мать; ярость Жофи так ее испугала, что она охотно выскочила бы из комнаты. Потом, так как Жофи продолжала возиться, а лампа все не зажигалась, спросила робко: — Спички никак не найдешь? Ужо я кликну Мари.
Спички, однако, были у Жофи в руках, и вскоре мать могла по лицу дочери гадать о смысле только что разыгравшейся сцены. Черты Жофи были сумрачны и неподвижны, точно каменные, и, как ни приглядывалась старуха, она ничего не сумела прочитать по ним.
— Что, красивая сейчас могилка? — робко присев на краешек дивана, спросила она. — Я с самой пасхи все никак не выберусь.
— Плиту надгробную нужно, — отозвалась Жофи. — С нынешнего урожая куплю.
— Лучше на будущую весну, доченька. Если сейчас поставить, земля осядет.
— Это всегда так говорится, когда делать не хотят. Пока свежая могилка — нельзя, дескать, осядет, а там, год пройдет, кому он будет нужен, мертвый-то.
— Да вот же и у нотариусовой Юлишки осела, — защищалась мать. — Ты, верно, помнишь, это ж перед днем всех святых было, чудом только работника ихнего не задавило, что венок принес.
— Ну, здесь, кроме меня, придавить некого, — пресекла спор Жофи. — Другие все равно не ходят, но, по мне, так-то и лучше.
Ответить на это было нечего, и матери оставалось только ворчать по дороге домой: легко сказать — с Жофи по душам поговорить. Вот и поговорите с ней! Будто не родная дочь, право.
Что же до Кизелы, то обескуражить ее было не так просто. После того как она устроила Имре у фарнадского графа, будущее стало приобретать для нее более ясные очертания. Большая или меньшая определенность будущего, уже не просто воображаемого, а зависящего от нашей воли, вырабатывает упорство не только у государственных деятелей, но и у такой вот вдовы школьного служителя, доживающей век на пенсии. Великая задача подстегнула угасающие силы Кизелы, великий замысел — возвышение сына — расшевелил усталую и иссохшую душу, словно речь шла об основании новой династии. Ожили даже глаза, быстрее стали движения. Она действительно перестала уже и надеяться, что сын когда-нибудь прибегнет к ее хитросплетениям и ей доведется даже устраивать ему подходящую женитьбу. Она испытывала почти благодарность к тем хозяевам, которые нанимали Имре на все меньшее жалованье и все быстрее от него освобождались. Они-то и доломали строптивца, теперь он готов хоть на мужичке богатой жениться, только бы не перевозить больше по холоду пиво в открытых грузовиках и не болтаться без работы в единственном приличном костюмчике.
Относительно Мари Кизела была спокойна. Эта ласковая телушка будет благодарна до самой смерти, если станет ее невесткой. И если Кизела переедет к сыну, то нечего бояться, что невестка выкурит ее оттуда. Единственным серьезным препятствием, одолеть которое предстояло Кизеле, был гонор Кураторов. Железнодорожный служащий, шофер для них все равно что поденщик, они скорей отдадут свою дочь за босоногого мужика, что с утра до вечера на волах пашет, чем за ее сына. Вместо того чтобы возблагодарить господа за счастье! Да что толку негодовать на эдакую глупость — их ведь не переделаешь. Но Кизела не такова, чтобы сразу отступить, не сделать попытку добиться своего. Что Имре отныне будет под боком — уже полдела. Теперь Кизела так все подстроит, что Мари на худой конец и топиться к колодцу побежит, и из петли ее вынимать придется — не мытьем, так катаньем, а будет она за Имре. Конечно, это все на крайний случай, Кизела не из тех, кто сразу же на самый верх лестницы вскочить норовит. Затевая свой план, она прежде всего подумала о Жофи. Если удастся завоевать Жофи, дверь в семейство Кураторов перед нею откроется. И почему бы Жофи не взять ее сторону? Хотя бы чтоб своих позлить. Разве не покровительствовала Жофи Марике, когда и ее самое с сержантом тем поминали? А что такое сержант, батрацкий сын, в сравнении с ее Имре? К тому же Жофи есть за что быть благодарной Кизеле. Как она за мальчонкой ее ухаживала! Бабка только и умела, что охать да пугаться, — а сделал ли кто хоть один компресс малышу! Никто, только Кизела. А разве мало того, что пожилая интеллигентная дама удостоила Жофи своей дружбы? Нет, Жофи не может противиться ее планам. Тем более что кому-кому, а Кизеле-то известно, отчего умер Шаника. Она могла бы порассказать, как ребенок день-деньской в грязных лужах болтался на задах Хоморовой усадьбы. Ну, хорошо, Жофи не хочет пока понимать ее намеки: горе еще свежо, и усердствовать тут не годится. Кизела рассказывает о сыне, Жофи — о Жуже Мори. Досадно, но что поделаешь, своей бедой занята. Однако со временем Кизеле стало казаться странным упорное отмалчивание Жофи. Стоит Кизеле заговорить о сыне, Жофи тотчас начинает рассуждать о том, примется ли розовый куст у могилы. Или как могло бы все обернуться, если б позвали раньше торненского доктора. А не то мужа покойного вспомнит — зачем, мол, отпустила его с такой компанией, если б не это, жили бы они и сегодня все трое припеваючи.