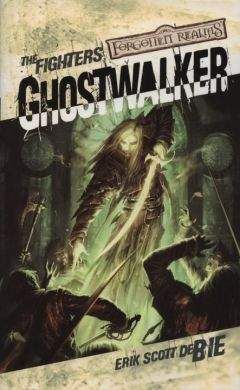Мишель Турнье - Метеоры
Первой была отдана публике церковная звонница, превращенная в колокольный музей, ее посещали целыми взводами веселые рядовые, для них колокола служили поводом к неистощимым шуткам. За ней последовали кинотеатры, теннисные корты, городской концертный зал, где полковой оркестр исполнял увертюры Массне, Шабрие, Лео Делиба и Шарля Лекока. Офицеры постреливали зайцев на Певельском плато и кабанов Ремском лесу.
Эдуард, освободившись от банальных забот повседневности, чувствовал, что живет нереально счастливой жизнью. Мария-Барбара, дети, Флоранс были, как им и полагалось, где-то далеко, в безопасности. Все проблемы, сомнения, беспокойство, омрачавшие последние годы, близость неизбежного, уже подкрадывавшегося старения — все это было отодвинуто войной надолго, может быть, навсегда. У него была очаровательная комната в «Голубой гостинице» на берегу Скарпа — так близко от реки, что он мог ловить форель, высунувшись в окно. В нескольких метрах отсюда, в булочной, под вывеской «Позолоченный круассан», он приметил восхитительную продавщицу, ему захотелось ее завоевать. Ее звали Анжелика — для близких просто Анжи, очень высокая, очень прямая и очень светловолосая, — она бойко торговала бриошами и миндальными пирожными по сент-амански, фирменной гордостью заведения. Ухаживание Эдуарда прошло через кондитерскую стадию, заключавшуюся в покупке через день этого лакомства. Но он быстро пресытился фламандским тестом, щедро украшенным толченым миндалем, насыщенным ароматом корицы, и принялся щедро одарять своими покупками всех попадавшихся ему навстречу детей. Этим он завоевал себе в своем квартале репутацию чудака, но прекрасная Анжелика избавила его от необходимости прибегать к этой уловке, приняв приглашение на бал, который должен был состояться в Театре армий после представления «Сюрприза Любви» Мариво. Однако она проявила непоколебимую здравость ума, отказавшись продолжать с ним вечер: завтра, мол, день пирожных по сент-амански, ее работа в «Позолоченном круассане» начинается в шесть утра. Но уже через два дня Эдуард узнал все возможности ее большого тела, сильного и неловкого, медленно возбуждавшегося вначале, но страстно и долго отдававшегося потом.
В трех километрах к востоку от города, на опушке Ремского леса, располагались казино и термальные источники, их деятельность, прерванная было ненадолго, теперь достигла небывалой активности, как на пике сезона. От безделья, душ, ванны и массаж стали казаться развлечением, которым не преминули воспользоваться офицеры, унтер-офицеры и рядовые. Эдуард, страдавший болями в позвоночнике, наконец-то начал лечение, благодаря «странной войне». Попробовав сначала душ из минерального радиоактивного источника, бьющего ключом и имеющего температуру 28 градусов, с наступлением первых холодов он решился испытать действие грязевых ванн, раньше отталкивавших его.
Он объяснял свою нерешительность естественным отвращением к погружению в тягучее, илистое вещество, насыщенное химическим зельем. Однако опытным путем он пришел к тому мнению, что в основе этого чувства коренилось нечто более глубокое и тревожное. Когда он лежал, погруженный до подбородка в эту горячую, подрагивающую, отливающую зеленым в коричневых прожилках, массу, источающую серные и железистые испарения, его глаза не упускали из виду стены и борт купальни, наполненной этим грубым составом, а руки крепко цеплялись за ее края как за единственную твердую опору, защиту и надежду. Разве сама эта грязь не была изъедена, испещрена, пожираема сульфатами, хлоридами и бикарбонатами, из которых она состояла? Разве не была она подобием гроба, обреченного рассыпаться в прах вместе с трупом, лежащим в нем? Не будучи склонным к философским медитациям, Эдуард, тем не менее, в долгие одинокие минуты лежания в грязевой ванне впадал в мрачное раздумье. Зловонные испарения, казалось ему, переносили его в один из кругов ада. Блаженство легкости, в которой он парил с тех пор, как оказался в Сент-Аман-лез-О, помогло ему разорвать семейные, сердечные, профессиональные связи, тяготившие его многие годы и вдруг будто ставшие невесомыми. Не было ли это освобождение связано с состоянием последней обнаженности, в которую глубокая старость или агония низводят человека перед тем, как он скользнет в небытие? Короче говоря, Эдуарду мерещилось, что он узнает в себе эту крылатую радость, парящую иногда над умирающими, когда их тело отказывается бороться с болезнью, что вселяет нежданную надежду на лучший исход, но на самом деле является преддверием смерти. Предчувствие, пронзившее его при известии об объявлении войны, пришло снова с полной ясностью: он скоро умрет. Война принесет ему преждевременный конец — достойный его, непостыдный, даже героический — и избавит от старческого разложения. Грязевые ванны стали для него местом духовных упражнений, сеансами концентрации и размышления, дали ему новый опыт, немного пугающий опыт возрождения.
Череда образов и мыслей, клубившаяся над местом, которое он назвал про себя своей «потусторонней ванной», приняла новое оригинальное и серьезное направление. Он вспомнил, что грязь была тем первым веществом, из которого человек был слеплен Богом, и, следовательно, последнее пристанище жизни воссоединялось с ее абсолютным истоком. То, что эта точка начала и конца великого жизненного путешествия игнорировалась другими, наполняло его огромным удивлением, и он стал думать о своем брате Александре, ставшем, не желая того, сборщиком и алхимиком всего самого низкого и отталкивающего, что есть в обществе, городских отбросов и мусора. Он внезапно увидел Денди отбросов другими глазами. Этот молодой, враждебный и загадочный человек, едва выбравшись из-под юбки матери, кинулся в губительные сети. Эдуард всегда чувствовал по отношению к нему презрение, смешанное со страхом. Став отцом семейства, он старался держать детей подальше от такого скандального дяди, чей пример мог оказаться опасным для них. Позже, смерть Постава и проблема наследства дали повод для семейного заговора, нацеленного на то, чтобы возложить управление «Обществом по уборке бытового городского мусора» на плечи шального бездельника. Естественно, Эдуард был в стороне от этих махинаций и темных сделок. Но что в этом отстранении было от эгоизма и что от желания сохранить тайну? И наконец, разве не ужасно было, что Александра подтолкнули к этому ремеслу, к этому месту на смрадных задворках цивилизации, где было больше всего возможностей для развития его дурных наклонностей? Эдуард, Эдуард, что ты сделал со своим братишкой? Можно было как-то помочь ему, если б представился случай, но ведь он не представился? Александр, человек дна, отброс среди отбросов… Эдуард, погруженный в грязь, бегло подумал и о других живых отбросах, окружавших его детей и невинных сирот из Святой Бригитты.
Не по тому ли, что скоро он умрет? В серных испарениях грязевой ванны перед его мысленным взором с невероятной живостью проносились целые эпизоды прошлого.
Ноябрь 1918 года. Ему стукнул двадцать один год. Уже три месяца как мобилизованный, он имел достаточно времени, чтобы привыкнуть к своей форме второго разряда, когда подписали перемирие. Он приехал тогда в Париж и, едва обняв мать и младшего брата, примкнул к своему полку, ожидая срочной отправки на передовую. Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы, начиненной конфетти, серпантином и шоколадом. Эдуард был так хорош в своей новой форме — крутые икры в полосатых гетрах, талия, подчеркнутая узким поясом, дерзкие усики на юном лице с круглыми, почти детскими щеками, будто с картинки сошел, — такой узнаваемый штатскими, виденный ими в мечтах, тот, кого они называли «наши солдатики». Поэтому он всегда был окружен толпой, его приветствовали, чествовали, носили его, любимчика, на руках, он был символом победы, хотя не слышал ни единого выстрела. Он совершенно естественно принимал эти знаки восхищения безумной толпы, пил за двадцатью столами, танцевал на импровизированных балах — они были на каждой улице — и на рассвете падал в сомнительном отеле в постель с двумя девушками. С той, что обычно лежала слева, он прожил еще полгода — пока ждал демобилизации. Она была пухленькая маленькая брюнетка, маникюрщица по профессии, с хорошо подвешенным языком, и хотя она сразу поняла, как именно служит Эдуард, представляла его повсюду «мой солдатик, который выиграл войну». Он позволял себя ласкать, холить и лелеять, она ухаживала за его ногтями, а он со спокойной совестью вел себя как воин в отпуске. Весной он вынужден был попрощаться с формой. Война кончилась. Началась скука.
— На самом деле, — вздохнул Эдуард, слегка шевеля ногами в вязкой жидкости, в которую был погружен, — мне надо было избрать военную стезю.
Сентябрь 1920 года. Его брак с Марией-Барбарой. В церкви Гильдоской Богоматери собралось много народу, многие пришли издалека, чтобы посмотреть на нового хозяина Звенящих Камней и поздравить Марию-Барбару. Она была уже вдовой и матерью, благодаря первому браку и материнству расцвела, что делало ее еще более красивой, гармонировало с ее типом красоты. Вместе они составляли пару, сияющую юностью и здоровьем. Это походило на союз двух гигантских цветов, двух божеств, двух аллегорических фигур — Красоты и Силы или, лучше сказать, — Мудрости и Отваги. Одно обстоятельство поразило многих приглашенных: как они похожи! Будто брат и сестра! По правде говоря, они вовсе не были похожи, у них не было ни одной схожей черты, она — жгучая брюнетка с зелеными глазами, узколобая, с маленьким, но чувственным ртом, он — светлый шатен, в младенчестве и вовсе блондин, высоколобый, с изогнутым ртом, во всем облике — наивный вызов, тогда как она — сама сдержанность, внимательная и восприимчивая. Но иллюзия сходства возникала из доверчивого счастья, от молчаливой радости, равно излучаемой обоими, именно она, окружая, соединяла их в единое существо.