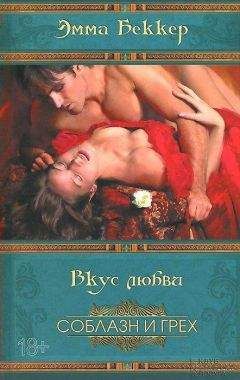Дом - Беккер Эмма
Вот так. А ты чем занимаешься?
В итоге, удивишься ты или нет, я все еще жду от него ответа. И я не виню бедного парнишку. Разумеется, в Tinder наверняка найдутся достаточно циничные мужчины, которые не упустят редкого шанса переспать с профессионалкой, не заплатив ни гроша. Но, по сути, разве я это ищу? Разве мне действительно охота потратить свое свободное время и гормональные порывы на того, кто станет лишь еще одним клиентом; на того, кого не пускают в бордель исключительно финансовые или же смутные моральные причины? Ведь мы никогда не ограничиваемся лишь одним желанием секса. Мы хотим уважать партнера и быть уважаемой им, мы хотим познакомиться. Ведь, правда же, секс между знакомыми людьми лучше. И где-то в уголке головы мы не исключаем возможности понравиться друг другу, мы надеемся найти, даже на такой тривиальной платформе, что-то более значимое, чем анонимный перепих. Мы никогда не перестаем надеяться, что влюбимся, потому что искать утомительно, — с этим все согласятся. Если есть пары, которые повстречали друг друга в продовольственном магазине, почему бы не встретить любимого в приложении для знакомств?
На худой конец провести с проституткой одну ночь можно. А что, если тебе понравится?
В оправдание того паренька надо сказать, что я могла бы преподнести эту информацию аккуратнее. Но не чувствуется ли в этом зародыше разговора иррациональный страх мужчин перед полной и жадной сексуальной жизнью женщины? Не кроется ли за этим целый мрачный континент, который должен бы встревожить нас поболее простого факта торговли своим телом и временем? Проститутка, которая на закате дня еще и рыщет в Tinder, может, она просто нимфоманка? Проститутка и нимфоманка. Да, однозначно с родственниками нужно будет многим поделиться. Ничего с этим не поделаешь, в глазах мира девушка, торгующая своим телом, носит своего рода плакат, на котором жирным шрифтом написано: «У меня не все в порядке». Возможно, что через проститутку мы судим и осуждаем мужчин: их низость, то, насколько они жалки, — все возможно. Но женщины служат превосходным козлом отпущения уже так много лет, что мы просто перестали это замечать, и эта ситуация еще не готова измениться. А я хочу спать с кем хочу и чтобы при этом мне не приходилось врать или оправдываться. Я не хочу пугать мужчин, с которыми пересекаюсь на улице и под очарование которых могу попасть. Мы не сможем всех их перевоспитать силой. Поэтому, бедняжка моя Полин, когда мы найдем себе работу?
Все эти интереснейшие размышления не помешали нам войти в здание, хоть я и чувствую, что отныне мы обе погрузились в мои сомнения. Однако выше по лестнице мы слышим, как Рози своим рассыпчатым, как сахар, смехом выпроваживает клиента. Одновременно Соня слышит наш звонок и открывает дверь, курлыча наши звездные сценические имена. Мы толком не успеваем зайти внутрь, как Бобби, всегда немного крикливая, орет наобум: «Жюстина, уже десять мужчин звонили, чтобы записаться к тебе!» Что до Полин, ее расписание тоже забито. Отработавшие утром девушки неспешно переодеваются. Ну разве есть более приятная вещь, чем краем глаза смотреть на тех, кто начинает, в то время как ты закончила свою смену? Лотта, уже надевшая наушники, предлагает нам попробовать клубнику из ее сада. Маргарет начесывает парик, превращающий ее в блондинку. Раздается звоночек из ванной комнаты, и Марианна вскрикивает: «Что, уже?» Она поспешно проглатывает остатки своего йогурта, не без пары колкостей в адрес клиента, который, скорее всего, едва помыл руки. В этом бесконечном потоке болтовни мы с Полин медленно разуваемся, в то время как в дверь внизу звонят два раза. Телефон тоже разрывается. Соня теряется и не знает, на какой звонок отвечать. Делила занимает лучшее место для обзора за шторой и видит входящих клиентов. Несмотря на тарарам, мы слышим, как она радостно заявляет:
— Француженки здесь, и мужики повалили!
От чего мы с Полин улыбаемся. Только вот это не шутка, не совсем шутка. Признаем без ложной скромности: если на земле есть место, где нас обожают, желают, где у нас есть определенная репутация и нам льстят, как очаровательным деспотам, где нас подозревают и понимают, завидуют нам и принимают, — так это здесь, в Доме.
И, видишь ли, может быть, именно в этом корень проблемы.
Twist and Shout, The Mamas and the Papas
Я скучаю по Дому. По тому, как утреннее солнце падало на старый паркет, по тому, как девушки чистили себе перышки перед открытием. Может быть, я преувеличиваю, расписывая красоту плоти, мелодию смеха, веселье, наступающее в конце дня, ту неуловимую магию, что я замечала, остановившись у входа в зал и разглядывая их. Может быть, я сентиментальна оттого, что теперь они далеко. Но я все еще помню мимолетное опьянение, неописуемую радость быть окруженной обнаженными, ну, или почти обнаженными, женщинами — будто я оказалась в раю, а умирать и не требовалось. У меня захватывало дыхание. Даже в те моменты, когда они раздражали меня, когда говорили слишком громко, поступали глупо, невежливо, были резкими, беспрекословными, порочными, когда мне казалось, что я могла бы придушить некоторых из них и обругать всех остальных, я находила их красивыми. Этот театр играл только для меня, единственного зрителя, и я была редкой зрительницей, способной любить всех одинаково. Никто еще не смотрел на них с таким наслаждением, с такой умиротворенной чувственностью. Порой я задаюсь вопросом: не ради них ли я пришла работать в Дом? Ах, сейчас, когда я пишу, это становится очевидным. Мужчины, мужчины повсюду. Их можно встретить на улице, на вечеринке, где угодно. Но было только одно место, где я могла бы встретить проституток, этих героинь моего эротического воображения. Как подумаю, что никогда не побывала бы там…
Мне всегда казалось, что я пишу о мужчинах, но, перечитывая свои книги, я понимаю, что всегда писала только о женщинах. О том, что я одна из них, и о тысяче проявлений этого факта. Скорее всего, это и станет делом всей моей жизни — в лепешку разбиться в попытках описать этот феномен, смириться с впечатлением, что продвинулась хотя бы на полсантиметра, исписав сотни страниц. И стараться убедить себя в значимости этого прогресса, словно я сделала важное открытие. Писать о проститутках, неслыханной карикатуре на женщин, о схематичной обнаженности этого состояния, о том, как быть женщиной, ничем более, и зарабатывать на этом, — это будто исследовать свой половой орган под микроскопом. И это восхищает меня, как лаборанта, наблюдающего за тем, как важнейшие для любой формы жизни клетки размножаются между двумя стеклышками.
В такие моменты я наконец понимаю, насколько тонка грань между журналистикой и литературой. И что я, по сути, не создана для того, чтобы быть журналистом. Какой бы эгоцентричной ни была эта профессия, она не достает и до щиколотки напыщенному нарциссизму писателя наподобие меня, неспособного говорить о ком бы то ни было, кроме самого себя. Но я пытаюсь иногда. Когда я была в Доме, а точнее — когда я оттуда выходила, в моей голове было полным полно точных высказываний девушек, их смеха, тех важнейших фраз, которыми они обменивались, не придавая значения. Я чувствовала их живость, такую живость, что мне казалось, я поняла часть их души. И это неспроста: может, все так, потому что их голоса и мой сливаются в конечном итоге. Между моментом, когда они говорят со мной, и тем, когда я отражаю его на бумаге, их блеск будто теряется в переводе. Это блеск живого существа, целиком находящегося вне меня. Я рассказываю о них с таким количеством любви, подобострастия, размышлений, что теряю по пути их глупый, но такой правдивый смех, ничего не значащие детали будней, проведенных в их тепле. Моя точка зрения, и это выходит за писательские границы, подталкивает меня изобразить их подобно статуям, подобно иконам. Я хотела бы отразить на этих страницах их уникальность, их великолепие, но в итоге мы все слились в одну женщину, и их слова звучат, как мои. Это взаимное согласие уничтожает всякую объективность. Эта женская солидарность настолько глубоко засела во мне, что я уже не чувствую ее.