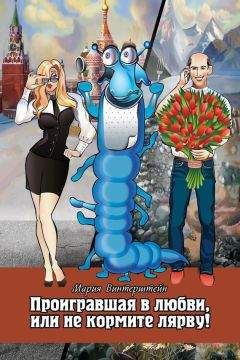Уильям Стайрон - Уйди во тьму
Что могу я сказать? Я знаю только — это ужасно, что наша семья должна быть такой. Я надеюсь, что ты туда ездила и разговаривала с матерью. Если этого не произошло — пожалуйста, напиши ей письмо. Она так расстроена из-за Моди, но я понимаю, что ты имеешь в виду, говоря, что чувствуешь себя разорванной и разрезанной пополам. Это ужасно: я понимаю, что в этой мешанине хорошо и что плохо, но, похоже, я не в состоянии что-либо тут изменить. В твоей матери сидит гордость шириной в милю, но мне кажется, она теперь изменилась и готова пройти полпути — только первый шаг должна сделать ты.
И я не просто обеспокоен неразберихой, какая, похоже, царит в нашей семье, хотя это само по себе уже немало, но, лапочка, я просто не верю, что вынесу, если ты вот так всегда будешь вдали от дома. Я знаю, что скоро ты выйдешь замуж и все такое, но до тех пор нехорошо болтаться по всей стране и называть другие места „домом“. Ты провела вдали от нас все последнее лето…»
«Послушай, детка, — продолжал он, — я просто хочу, чтобы ты чаще бывала дома, — это и побуждает меня просить тебя помириться с твоей матерью. Так что, пожалуйста, сделай это ради меня. Но если что-то случится и ты не встретишься с ней или если ты хочешь немного подождать, все равно приезжай сюда в конце будущей недели. Устрой старику передышку. Я полагаю, они обе все еще будут в Шарлотсвилле, так что дом будет в нашем распоряжении и мы сможем сесть в машину и устроить пикник в Йорктауне или Джеймстауне или где-то еще у воды. Привези, если хочешь, с собой одного из своих молодых людей, детка. Я думаю, я смогу выдержать конкуренцию. Что же до неприезда домой на Рождество, что ж, лапочка, не волнуйся, к тому времени все утрясется и когда подойдет сочельник…»
Рождество. Великий Боже. Что-то дошло до его сознания. Он вспомнил бумажные шляпы, фиолетовые и зеленые. Глотнул, наполнил стакан и повернулся к Долли.
— Выключи радио, — приказал он.
Она сидела, казалось, на большом расстоянии от него — в другом конце комнаты, — обложившись подушками, и была вся внимание.
— О’кей.
— Черт возьми, это же просто позор.
— Что именно, лапочка?
— Да всякий раз, как я думаю об Элен. До чего мерзко она обошлась с Пейтон. Почему я с этим мирюсь? — Он поднялся и зашагал по комнате, наслаждаясь своим гневом и театрально рассекая воздух рукой. — Почему? Почему я это приемлю? Можно подумать, что теперь я уже выучил свой урок, верно? Иисусе, помилуй нас, неужели в моем характере в самом деле столько благородства, что я не могу вот так взять и уйти? Что ты на это скажешь?
Долли поняла это как намек и начала готовить ответ, но вопрос был задан риторически.
— Это позор, — громко продолжал он, — когда у тебя не хватает мужества избавиться от преданной Богу, закоснелой, твердокаменной, околдованной Евангелием дьяволицы. При этом — настоящей святой. О Господи, что же я наделал, чтобы такое заслужить?
Долли встала и, подойдя к нему, положила руки ему на плечи. Она решительно отобрала у него стакан и потянула его к дивану.
— А теперь, сладкий мой, — сказала она, — ты слишком много выпил, тебе не кажется? И ты устал, и вообще, и лучше тебе посидеть тут и успокоиться. Садись сейчас же и отдыхай и расскажи все Долли. — В подобные минуты Долли начинала блистать, преисполнялась желанием действовать и, как хороший боксер, спешила воспользоваться своим преимуществом, хотя это не она, а Пейтон вызвала такую вспышку, и она почувствовала ледяной укол зависти. — Пожалуйста, успокойся, милый котеночек, — сказала она. — Что случилось, дорогой? — спросила она, когда он сел на диван и забрал свое виски с каминной полки. — Скажи Долли.
— Я уже достаточно сказал, — произнес он, надувшись.
В другое время она стала бы по-детски лепетать: «Фу, маленький, Долли все уладит», — поцеловала бы его и успокоила или устроила какой-нибудь безобидный спектакль, чтобы излечить это malaise[9], но сейчас момент был полон головокружительной и трепетной надежды. И Долли медленно начала:
— Ну, дорогой, если таковы твои чувства, не кажется ли тебе, что сейчас самое время для разрыва, пока не поздно? Это же ужасно, что тебе приходится выносить. — Она помолчала, крутя его кольцо с опалом — на камне золотом была выведена печать университета Виргинии. — Дай мне твое кольцо, — сказала она тихо. Но пытаясь произнести это наполовину в виде мягкой шуточной команды, наполовину в виде жалобной просьбы, она сумела лишь сказать это по-детски, и он отдернул свою руку.
— Совсем как в прошлое Рождество, — сказал он. Он не обращал на нее внимания, а она устала, устала, устала слушать про прошлое Рождество, про Пейтон.
— Да, я знаю, — сказала она. — Это было ужасно. — И быстро добавила: — О дорогой, почему ты ничего не предпримешь?
— О Господи, не сейчас. Я встревожен. Я просто не могу: ну как Элен воспримет подобное сейчас? Даже Элен.
— Да, я понимаю. Даже Элен. Бедненькая Моди. — Пауза для раздумья. — По-моему, ты просто слишком хороший человек, — печально произнесла она. — Но так и должно быть. Я, наверно, смогу дождаться подходящего времени, но, конечно, это будет трудно.
А он не слушал ее. В его мозгу горечь засела, как злая сова, высматривающая жертву: «Черт побери. Погано так относиться к моей девочке».
— По-моему, ты права.
— В чем? — с надеждой спросила Долли.
— Да так. Всякий раз, как я об этом думаю, у меня возникает желание плюнуть на все. Оставить все как есть. Умыть руки.
— Что все-таки произошло, мой сладкий? — спросила она и подумала: «Ох-хо-хо, слишком поздно». Она уже почти год слушала это все снова и снова; сейчас, повинуясь какому-то рефлексу, какому-то желанию подладиться, она по недосмотру задала вопрос, который нагнал тоску, мучил ее. Все, что касалось Лофтиса и его семьи, а не ее лично, огорчало ее. Она больше не хотела слышать о Пейтон, она предпочитала, чтобы он ласкал ее, предлагал провести вместе ночь, и ей хотелось дать себе подзатыльник за то, что она снова подтолкнула его к решению проблемы. Стремясь отвлечь его от этих мыслей, она быстро произнесла: — Сладкий мой, налей мне выпить.
Он удивил ее. Казалось, он полностью забыл обо всем, и он был пьян. Поднявшись на ноги, он ничего не сказал, а, пошатываясь, прошел к бюро и налил два больших стакана.
— Не так много… — начала было она.
Он медленно повернулся — виски перелилось через край стаканов, вылилось ему на руки, — он повернулся, как кукла на веревочках. Теперь он смотрел на нее — раскрытый рот, лицо красное от виски и злости, глаза мутные, вытаращенные, величиной с четвертак. Он тяжело дышал — она слышала, как с каждым вздохом в глубине его груди клокотала мокрота. Он немного пугал ее. Он стоял, шумно дыша, и ей хотелось, чтобы он прочистил горло.
— Больше от страха и отчаяния, — произнес он наконец, — чем от злости. — Он помолчал, улыбнулся слегка и добавил ласково: — Дорогая моя. Больше от отчаяния, — повторил он, — чем от злости. — Алкоголь вытащил на поверхность разные периоды жизни, воспоминания, его отца. — «Сын мой, — говорил мне отец, — мы стоим у задней двери славы. Мы в этот период времени являемся всего лишь останками былого величия, более благодатного, чем даже может представить себе сам Господь Бог, мы — крошечные говняшки ангелов, не люди, а раса гаденышей, мерзкие мутанты, забывшие наши слова любви и наши…» — Он снова умолк, задумчиво моргая, склонив набок голову, точно хотел опять услышать — будто звон с далекой колокольни — горькое заклинание пораженца. — Я считаю… я считаю, — сказал он, — потеряли мы слова любви.
— Да, Милтон, — сказала Долли.
— Когда отец был жив, я ненавидел его. А теперь его нет. Только это я и могу сказать. Все другое. Другое. А он помнил Франклин-стрит в Ричмонде, когда в апреле тысяча восемьсот шестьдесят пятого года Линкольн приезжал туда. На деревьях еще только появились листочки, он говорил, что за всю свою жизнь никогда не был так голоден, и все негры бегали и кричали: «Мастер Линкум, приди, спаси нас, как сам дорогой Иисус!» Отцу было девять лет, на деревьях еще только появлялись листочки, и когда он стоял там на солнце, сам Линкольн прошел мимо него, и старая шляпа-цилиндр слетела с его головы. Мой отец помнил все это. Он рассказывал мне. Как Линкольн прошел мимо, серьезный, задумавшийся и трагичный, а мой отец, девятилетний мальчишка, стоял в канаве босой и чертовски голодный и видел, как шляпа ударилась о вывеску над тротуаром и полетела вниз, на улицу. И Линкольн нагнулся, распрямил свое больное тело шести с половиной футов в длину, хотя ему оставалась тогда всего неделя до смерти, — распрямил свое тело рядом с моим отцом, подняв с легким кряхтением шляпу. Он постоял…
— Постоял, — повторила Долли.
— Постоял. Посмотрел моему отцу в глаза. Эти глаза — трагические, и добрые, и печальные, «бездонные и старые как время», как сказал мой отец, — они были все равно как два уголька, пролежавшие десять миллионов лет в темноте. Постоял. Потом сказал: «Сынок», — и все. Выпрямился или распрямился, расправил плечи и зашагал по улице, как большой черный верблюд. А мой отец, босой тогда, маленький, голодный, как только Богу известно, конфедерат, запомнил то лицо, те глаза на всю жизнь. Точно смотрел в глаза Христу и сказал: «Последний ангел, последний великий человек, ходивший по земле». — Лофтис положил очки на бюро. — Мы раса гаденышей. — И неопределенно повел рукой в направлении моря, войны, добавив: — В любом случае черт бы побрал их битвы. Не желаю я быть полковником в их чертовой дешевой механизированной войне.