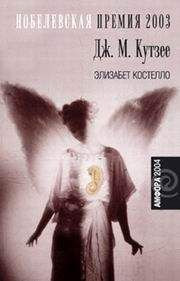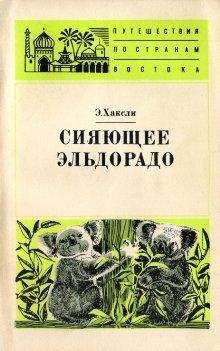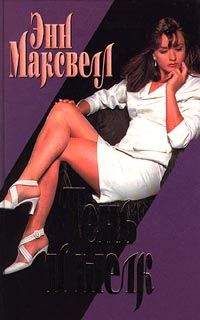Элизабет Костелло - Кутзее Джон Максвелл
Итак, причиной моего звонка отчасти было желание убедиться в том, что и после того, как я перестану существовать в телесной оболочке, я останусь жить в своем творении».
Элизабет Костелло продолжает распространяться по поводу быстротечности славы, но это мы можем безо всякого ущерба пропустить. Двинемся дальше.
«С другой стороны, — продолжает она, — даже Британский музей с его коллекцией не будет существовать вечно. Когда-нибудь и он разрушится, исчезнет с лица земли, и книги на полках его превратятся в прах. Однако еще задолго до того, как книжные листы начнут распадаться под воздействием кислот, на полках будет становиться все теснее от новых поступлений, и тогда все нечитаемое, все ненужное будет отправляться в подсобное помещение. Затем всё это бросят в топку, удалят из каталога соответствующие названия, и эти книги исчезнут без следа, словно их и в природе не было.
Мое альтернативное предвидение судьбы вселенского книгохранилища куда более тревожно, чем то, которое предложил Хорхе Луис Борхес. Я вижу библиотеку не как место, где мирно сосуществуют книги, созданные в прошлом, настоящем и будущем, но как место, где многое из того, что было задумано, написано и опубликовано, уже перестало существовать не только в хранилище, но и в памяти библиотекарей.
Опасение подобного рода и было второй побудительной причиной моего поспешного звонка в издательство, и в этом, как я уже сказала, признаваться не очень приятно. Получается, что Британская библиотека, равно как и Библиотека Конгресса США, может уберечь нас с вами от полного забвения ничуть не лучше, чем наша прижизненная репутация. Об этом я напоминаю себе постоянно, об этом в сей торжественный для меня вечер я хочу напомнить и всем вам.
Перейдем теперь непосредственно к теме лекции, озаглавленной „Что такое реализм“.
У Кафки есть рассказ — вероятно, многие из вас его тоже знают, — где одетая как человек обезьяна произносит речь перед ученым собранием. Это научное сообщение, но одновременно и тест, испытание, своего рода проба сил. Обезьяне предстоит продемонстрировать не только владение языком людей, но и доказать, что она усвоила нормы человеческого поведения и вполне готова стать членом человеческого сообщества.
Зачем я обращаюсь к этому сюжету?
Разумеется, не затем, чтобы предстать перед вами в роли обезьяны, вырванной из привычной среды обитания и вынужденной демонстрировать свои способности перед критически настроенным собранием чужаков. Надеюсь, что вы меня так не воспринимаете. Я одна из вас, одной с вами породы и природы.
Если помните, у Кафки весь рассказ представляет собой монолог от лица обезьяны. Форма монологической речи не дает возможности объективно судить ни об ораторе, ни об его аудитории. В принципе говорящий может оказаться вовсе и не обезьяной, а человеком, как мы с вами, вообразившим, будто он — обезьяна, или человеком с недоразвитым чувством юмора, который решил поупражняться таким образом в ораторском искусстве. С равной долей вероятности мы можем предположить, что в зале собрались не почтенные багровощекие джентльмены при бакенбардах, которые ради такого торжественного случая расстались со своими охотничьими куртками и облачились в парадные сюртуки, а сородичи докладчика — обезьяны.
Возможно, они еще не достигли того блестящего уровня, который демонстрирует обезьяна-докладчик, бегло произносящая длинные немецкие фразы, но уже научились сидеть тихо и слушать. Если бы дрессура не продвинулась настолько далеко, то наверняка их можно было бы пристегнуть цепями к креслам и сделать так, чтобы они не галдели и не мочились на публике.
Итак, мы не знаем, кто есть кто. Не знаем сейчас и не узнаем никогда, о ком этот рассказ, — то ли о человеке, который обращается к себе подобным, то ли об обезьяне, выступающей перед обезьянами. Мы с равной долей вероятности можем представить в роли оратора как обезьяну выступающую перед людьми, так и человека, толкающего речь в собрании обезьян (последнее, впрочем, маловероятно). Можно даже вообразить, что оратор — попугай и его слушатели тоже птицы.
Однако было время, когда мы знали, кто есть кто и что есть что. Мы тогда верили, что если в тексте сказано: „На столе стоял стакан с водой“, то так оно и было: был стол и на нем стакан с водой. Чтобы это увидеть мысленно, достаточно было заглянуть в словесное зеркало — в текст.
Но этому пришел конец. Словесное зеркало разбито вдребезги и восстановлению не подлежит. Не только у меня — у каждого из вас может быть своя версия того, что происходит там, в кафкианском лекционном зале. Кто есть кто в этом зале? Только люди? Или люди и обезьяны? Или только обезьяны? В конце концов, возможно, это вовсе и не аудитория, а просто-напросто зоопарк. Слова на книжной странице уже нельзя выстроить, приказать рассчитаться на первый-второй и отрапортовать, кто есть кто в данном тексте. Словарь, который, бывало, ставили рядом с Библией и сочинениями Шекспира на самом почетном месте, там, где добропорядочные римляне располагали своих богов, — на полке над очагом, стал всего лишь еще одним кодовым справочником — одним среди многих, ему подобных.
Таково положение вещей в настоящий момент, когда я стою здесь, перед вами. Думаю, вы понимаете, что я не собираюсь глумиться над предоставленным мне правом выступить, занимая ваше внимание пустой нигилистической болтовней о том, кто я — женщина или обезьяна — и кто вы, мои уважаемые слушатели. Я считаю, что для рассказа Кафки важно нечто совсем другое. Правда, это лишь мое личное мнение, и кто я такая, чтобы навязывать его другим. Было время, когда каждый из нас полагал, что знает, кто он есть. Теперь мы все — актеры, и каждый проговаривает текст своей роли. Твердая почва ушла у нас из-под ног. Возможно, нам следовало бы воспринимать это как трагическое событие, если бы не одно соображение: трудно сохранять должное уважение к тому, чего уже не стало, — к той самой твердой почве, которой больше нет. Теперь она кажется нам иллюзией, одной из тех, какие возникают, когда все находящиеся в одном помещении в течение длительного времени сосредоточенно смотрят на один и тот же предмет. Стоит отвести взгляд — и зеркальная картинка разбивается вдребезги.
Из всего этого следует, что сейчас перед вами я ощущаю себя крайне неуверенно. Несмотря на высокую награду, которой вы меня отметили (за что я вам бесконечно признательна) и которая является залогом того, что я причислена к блестящей плеяде избранных, удостоенных этой чести до меня, и потому стала неподвластна капризам времени, все мы сознаем, что — если посмотреть на вещи трезво — придет пора, когда всё, что вы так высоко оценили, всё, к чему и я причастна, перестанут читать и в конце концов предадут забвению. И это будет справедливо. Должен существовать предел тому, чем мы загружаем память наших детей и внуков. У них будет свой мир, и с течением времени мы в этом их мире станем занимать все меньше и меньше места.
Благодарю вас».
Аплодисменты, вначале неуверенные, набирают силу. Мать снимает очки и улыбается. Улыбка у нее замечательная, похоже, она наслаждается своим триумфом. Актерам дозволено открыто наслаждаться аплодисментами — независимо от того, заслужили они это или нет. И не только актерам. Это дозволено и певцам, и музыкантам. Спрашивается, почему бы и его матери не искупаться в лучах славы?
Наконец аплодисменты стихают, и декан наклоняется к микрофону:
— Закуски будут сервированы…
— Разрешите? — прерывает его звонкий, решительный голос. По залу прошел шумок. Люди завертели головами.
— Закуски будут сервированы в фойе, там же выставлены книги Элизабет Костелло. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Мне лишь остается…
— Разрешите!
— Что такое?
— У меня вопрос.
С места поднимается молодая особа в красно-белом форменном джемпере студентки Альтоны. Броутхэм невозмутим, но мать перестала улыбаться. Джон понимает, что это значит: с нее довольно, она хочет уйти.
— Не думаю, что это возможно, — нахмурившись, произносит декан, ища поддержки в зале. — На сегодняшней церемонии вопросы не предусмотрены. Мне хотелось бы выразить благодарность…