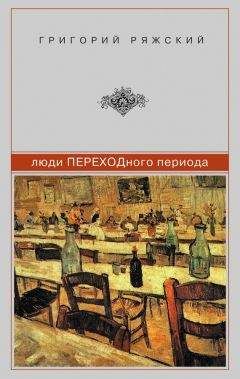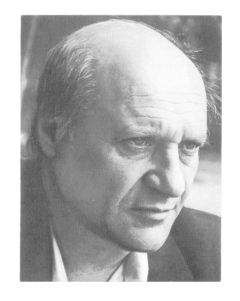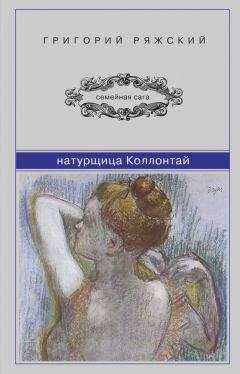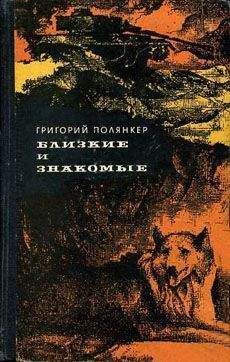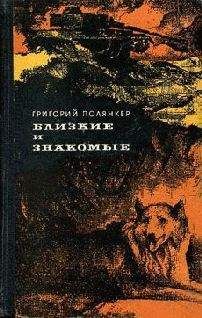Григорий Ряжский - Точка
Ехали нормально, потому что соседом был веселый парень-аспирант по холодильным агрегатам. Весь путь он травил анекдоты и таскал из буфета прохладительную воду с газом. Последний раз, перед самой уже Москвой, когда оставалось ночь ехать всего лишь, а на утро уже сама мать городов-героев ожидалась, притащил снова, на этот раз зелёной какой-то, с травой, сказал, тархуном и мятой, и она попила, перед тем, как укладываться окончательно. А утром её еле добудилась проводница, еле глаза ей сумела разомкнуть и трусы обратно натащить на голые бедра. Крокодиловый портфель валялся в стороне от события, в тамбуре, но без 500 рублей под боковой молнией и без паспорта. Тапки, паста «Лесная», учебник, все такое было на месте, но осознать ни того, что утрачено, ни того, что осталось во владении, Диляра не могла еще в течение ближайших трёх-четырёх часов, пока внутренность головы восстанавливалась после воздействия порции клофелина, растворенного в тархуновом питье, а душа — после ночного «аспирантского» надругательства над обездвиженным и повторно обесчещенным телом. До зала ожидания на Курском вокзале Диляру доволокли две сердобольные студентки и курсант-пограничник. Испытывая легкую неловкость, они помялись для виду около невменяемой Дильки, но сумели-таки преодолеть внеплановый неудобняк и, наскоро кивнув друг другу, то ли на прощанье, то ли с целью обозначить намерения насчёт частично спасенной ими девушки, растворились в людской толпе, каждый в своем безвозвратном направлении.
Окончательно Диляра пришла в себя лишь к концу дня, снова оказавшись в нечистом купе одиноко стоящего в дальнем тупике вокзала брошенного вагона. Рядом был неопрятный мужик с хитрыми и сухими глазами и делового вида баба, похожая на ушлую билетную кассиршу. Портфель с остатками имущества тоже был здесь. Интересовалась в основном баба, а мужик сочувственно ей поддакивал. Чтобы разобраться в Дилькиной новелле, бабе хватило минуты четыре, причем с деталями, включая историю бишкековского невольного греха.
— Значит так, девка, — жестко объявила решение баба, — жить селю тебя сюда, аборт организую, но аборт, жилье и харчи отработаешь. А там посмотрим, что с тобой делать, ясно?
— Ясно, — согласилась Диляра, совершенно не понимая, чего хотят от нее эти люди, кроме как помочь в ее беде. — Спасибо вам.
— Тогда выпей, — обрадовался мужик и налил ей в стакан чего-то прозрачного. — Это для тебя укрепляющее.
Диля выпила и почувствовала, что ей действительно становится лучше.
— Работать начнем сегодня, — перешла к делу баба, — с вечера прям.
И снова Диля согласно кивнула, потому что ей стало ещё лучше, гораздо лучше, окончательно нормально и хорошо…
Клиентов в вагон приводил мужик и доставлял непосредственно в купе, куда заодно приносил воду и поесть и из которого водил Дильку по нужде в вагонный туалет, где вместо вырванного с корнем унитаза в полу зияла дырка в черноту, если дело было вечером или ночью, или же мутный, рваный световой цилиндр упирался в загаженную рельсовую шпалу, которую она с трудом разбирала почти невидящими при дневном свете глазами.
Сопротивляться появляющимся и исчезающим с механической регулярностью разновеликим мужским объектам сил не было. Да силы были, в общем-то, и не причем. Не было нужного соображения головы, не хватало ни времени, ни умения собрать все, что было вокруг нее, в одну понятную картину, загнать происходящее в середину страшного купейного вагона и охватить все это разом: умом, глазами и животом. Одежды не было никакой, так как баба унесла все, что на ней было, а ее просто прикрывали после быстрой случки суконным одеялом, говорили раздвинуть ноги, но в итоге делали все за нее сами, поворачивали, как надо, к себе или в обратном от себя направлении, дышали в нее кто чем, но всегда гадким и через одного присасывались ртами и отдельно зубами к молодым кускам бесчувственного Дилькиного тела. Один раз возникла баба, но другая, не билетная кассирша, она тоже лизала и сосала Дильку повсюду, как делали другие мужики, но, кажется, осталась недовольна получившейся Дилькиной безответностью и ушла, обругав ее грязными словами.
Так, будучи в Москве, но не имея о мировом культурном центре ни малейшего представления, Зебра провела на Курском вокзале, именуемым в народе Курком, четыре месяца. Все кому не лень, вернее, все, кто честно соответствовал невысокому по вокзальным меркам тарифу, установленному бабой с мужиком, исходя из принципа соответствия цена — качество, был пропущен через Дильку так же с их стороны честно, без малейшего обмана, подлога и подмены.
Вышвырнули Диляру на улицу, когда клиент перестал ее брать окончательно из-за шести с половиной-месячного беременного живота и наступивших в неотапливаемом вагоне октябрьских заморозков. На голое тело ей натянули промасляную фуфайку, дали сапоги и на погрузочной тележке откантовали ближе к дальним краям платформы; там же бросили вместе с тележкой, куда в виде окончательного расчета приложили полбутылки того же дурманного питья.
Жидкость она выпила сразу и сразу же заснула. А когда проснулась от холода, то удивилась, что никто не поворачивает ее так и сяк и не втыкает в ее тело никакие атрибуты любви. И тогда Дилька начала трезветь, потому что подпитки больше не было никакой. Трезветь и замерзать. Встать и пойти прямо или куда-нибудь вбок ей просто не пришло в сломанную голову. Но сознания хватило на другое дело, веселое и понятное. Она саданула опустошенной бутылью о край тележки, из образовавшихся осколков отобрала кусок позаостренней, задрала масляный фуфаечный рукав и с размаху вонзила стеклянный угол в открывшуюся слева руку, выше запястья. Оттуда брызнуло густо, сочно и черно, и Дильке это понравилось. Она била туда же и секла стеклом сверху вниз и обратно до тех пор, пока не поменяла руки. То же самое, но с опавшим уже от потери крови остервенением она проделала с правой рукой, откуда темной жидкости вылилось немного меньше, но тоже было очень красиво и по делу. Очень красиво. Очень…
Изрезанные Дилькины руки зашивали в институте Склифосовского, вырезая одновременно из ее живота нерожденный плод и тут же делая переливание крови. Если бы под утро тележку с Зеброй, пребывающей в бессознательном отходняке, не обнаружил бомж из местных и не сообщил дежурному по вокзалу, вернее, если бы это произошло на пятнадцать минут позже, то умер бы не только ребенок в Дилькином чреве, но не стало бы стопроцентно и самой Дильки.
А Зеброй Дилька заделалась уже в вендиспансере, после Склифа, куда ее отправили на излечение от многоцветного заразного букета, образовавшегося в ее девичьем организме за время купейного постоя на тупиковом пути. В то время как районные венерологи изжигали многочисленную заразу по своей линии, руки Дилькины прорастали поперечными твердыми шрамами, многочисленными, наклонными и прямыми, образовывая вдоль всей внутренней поверхности рук от запястья до предплечья затейливый узор, напоминающий одноцветные полоски африканской зебры. Такое выпуклое обстоятельство никак не могло укрыться от внимательного глаза соседних сифилитиков, и кликуха приросла намертво с того дня, как Дильке в диспансере задрали рукав больничного халата для первого оздоровительного укола в трудную вену.