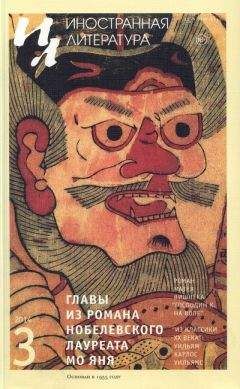Эльке Хайденрайх - Современный немецкий рассказ
— И поэтому ты до крови высекла маленькую девочку?
— Ну, уж прямо до крови. И не такую маленькую, по крайней мере, достаточно взрослую для того, чтоб обжиматься по углам да целоваться. Как твой отец.
Я вспомнила те невинные детские поцелуи, которыми обменивалась с мальчиками после танцев, ведь мне так хотелось любви, которой не было дома. И за это она меня избила.
После долгой паузы мама глубоко вздохнула и тихо сказала:
— Знаешь, как я об этом тут же пожалела.
Я взяла ее за руку, и она не отдернула. Левой рукой я вела машину, а правой держала ее руку. Не помню, чтобы когда-нибудь мы вот так держались с ней за руки, чтоб она это допустила. В полной тишине мы ехали дальше. Вдруг она радостно проговорила:
— Это что, уже Швейцария?
— Да. Хочешь, поедем через деревни, не по трассе? Вдоль Фирвальдштетского озера? Это займет больше времени, но зато там очень красиво.
— О да, если можно. Мне всегда так хотелось побывать в местах Вильгельма Телля.
— А что, он и вправду существовал? — спросила я с улыбкой.
Мама возмутилась:
— И ты еще спрашиваешь?
— Кончай скорей расчеты с небом, фохт!
Твой час настал.
Ты должен умереть!
Я прежде жил спокойно и беззлобно,
Одних зверей стрелою поражал…
Ты сам вложил мне в руки этот лук…
И в яд змеиный превратил во мне
ты молоко благочестивых мыслей…[3]
Здорово, правда? И ему все-таки пришлось стрелять в этого ребенка, и в конце он говорит:
…И тот обет священный,
который лютой порожден был мукой,
Исполню я… Мой лук тому порукой[4].
Или что-то в этом роде. Да уж, вот ведь как оно бывает.
— И как тебе удается помнить столько стихов, поэм, чуть ли не целых пьес? Я никогда не могла выучить ничего наизусть, а ты…
— Дело в тренировке. По ночам во время бомбежек мы только и делали, что читали при свечах и заучивали наизусть.
— Мы?
— Ну да, мы с Карлой. Ведь наши мужья ушли на войну.
— Но ты до сих пор все помнишь. Это просто поразительно.
— Когда много времени проводишь в одиночестве, начинаешь сама с собой говорить. Вот я и повторяю все что знаю.
Мы теперь ехали вдоль озера, мимо небольших деревень, и мама восторженно читала названия населенных пунктов на указателях. Когда вдали показалась сельская церквушка, она продекламировала:
Маленькой башенки шпиль
Над макушками елей высится,
Как горящий фитиль,
Бенедиктинской обители[5].
И я подумала — сколько же сил и энергии в ней таится! И почему мы с ней так и не научились общаться по-человечески? Мне всегда казалось, что она меня не любит, потому и я была по отношению к ней сдержанной, даже черствой. Возможно, я ей слишком напоминала отца. Когда отец вернулся с войны, он был ей уже не нужен — в то время так было со многими женщинами, ставшими сильными и независимыми за годы войны. А тут вдруг из России к ним вернулись мужья, духовно и физически искалеченные, и заняли то место, которое им уже не принадлежало, но они-то были уверены, что по-прежнему всё лучше всех знают — и где вешать щиток, и как воспитывать детей, и что женщинам самое место на кухне. И у нас, детей, почти никогда не складывались отношения с этими чужими худющими мужчинами, нашими отцами, которые вернулись домой из лагерей. Я хорошо запомнила, как однажды, сильно повздорив с отцом, мать окинула его ледяным взглядом и сказала: «Нечего тут из себя разыгрывать, в конце концов, ты такой же убийца, как и остальные».
Сказав это, она разрушила стену, которой он отгораживался от внешнего мира. Тогда-то он и начал пить и завел себе любовниц, с этого момента начался развал нашей семьи.
Я поставила Шуберта. И тут же меня вывел из задумчивости мамин голос:
О, музыка, о чудное творенье,
Ты каждому приносишь утешенье,
И тот всегда найдет к тебе дорогу,
Чье сердце знает боль и полнится тревогой[6].
Она посмотрела на меня и, улыбаясь, сказала:
— Как это прекрасно вот так вот ехать вместе с тобой.
Не могу припомнить, чтоб она когда-нибудь говорила мне нечто подобное.
Мы сделали остановку в Кюснахте, съели по куску вяленого мяса с ломтем свежего хлеба и выпили по бокалу вина. Она сидела рядом со мной за столиком, такая маленькая и энергичная, в своем синем платье, щеки у нее слегка зарумянились, и то и дело она пытливо на меня поглядывала.
— Ты счастлива? — вдруг спросила она.
— Ничуть, — ответила я, не задумываясь.
— Точно как твой отец, — заметила мама. — Он был на это просто не способен. В его семье все были несчастны. Кроме тети Карлы.
— Почему кроме нее? — спросила я.
— Карла была сильной. И твердо знала, чего хочет. Без нее я б не пережила эту войну. И ты тоже.
Мама отхлебнула вина и, глядя мне прямо в глаза, тихо сказала:
— Без нее тебя бы вообще не было.
Я сидела неподвижно, мне было ясно — вот сейчас я наконец-то могу узнать о ней нечто важное, что прольет свет на причины наших с ней ссор, по-видимому, она тоже почувствовала, что не может просто взять и оставить без пояснений эти слова, что ей необходимо объясниться. Она раскатывала хлебные шарики и, не глядя на меня, начала говорить:
— Я не хотела ребенка. В войну никто не хотел! Карле удалось спровоцировать у себя выкидыш, а я до пятого месяца все перепробовала: мыльные клизмы, прыжки со стола с кирпичом, Карла колола мне иголкой живот… но все без толку. Ты так и не вышла наружу, ты хотела жить.
У меня перехватило дыхание, сердце бешено колотилось, десятки образов проносились в голове, вопросы одолевали меня, к горлу подступали слезы, море слез — это плакала моя душа. Мною овладел страх, и одновременно я ощутила счастье. Это был страх жизни и счастье оттого, что я живу.
— Мы были уверены, что после всего этого ты будешь инвалидом, но ты оказалась вполне здорова. Карла помогла тебе появиться на свет. Дело было на кухне, за окном падали бомбы. Остальные попрятались в бомбоубежище. Только мы с Карлой остались на кухне. Зажечь можно было лишь свечи. Взрывной волной выбило оконное стекло, и в следующую секунду родилась ты. И, о боже, ты была совершенно здорова! Мы с Карлой обе разревелись, так мы были счастливы.
Впервые в жизни мне пришло в голову, чего ей это должно было стоить — родить в то время, от явно нелюбимого мужа, который не удосужился сделать ей ребенка за долгие пятнадцать лет брака, а случилось это, как назло, во время войны, когда он приехал домой на побывку.
Я чуть было не бросилась маме на шею, так остро я ощутила эту ее радость оттого, что я оказалась здоровым ребенком, мне хотелось объясниться ей в любви, но я медлила, и тут к нашему столику подошла официантка со счетом.
Мы снова сели в машину, и весь следующий отрезок пути я едва удерживалась, чтобы не рассказать ей о Флоре. Как же мне хотелось заговорить о том, что я люблю женщину, и возможно ли это после долгих лет брака, после рождения двух сыновей, после стольких романов?.. Разумеется, я ничего не сказала. Уж что-что, а эту тему обсуждать с мамой нельзя. Так я думала.
Мы ехали через Швейцарию, мама притихла. Время от времени она задремывала, но вскоре опять просыпалась, выпрямляла спину и, устремив взгляд в окно, говорила:
— Как чудесно, что я все это вижу.
И когда в Кьяссо мы свернули на Милан, она вдруг спросила:
— Ты вчера доела лимонный рулет?
— Нет, — сказала я честно.
Мама кивнула:
— Так я и думала.
Больше она ничего не сказала. Потом она заснула и проснулась, только когда мы кружили по Милану в поисках отеля.
Я забронировала два одноместных номера на две ночи.
— А где ты потом будешь жить? — спросила мама.
— У коллеги, — ответила я, помогая ей раскладывать вещи.
Вечером мы отправились в ресторан. Мне пришлось умолять официанта не добавлять ей чеснок. Мама моментально сделалась королевой заведения, ее называли «la mamma!», а она гоняла всех с поручениями.
С независимым видом она делала заказ по-немецки:
— И, пожалуйста, мне не этот, как его, «экспрессо», а самый настоящий кофе, но не слишком крепкий, и с молоком, но ни в коем случае не со сгущенкой!
Я перевела, а мама поразилась, что ее не поняли, хотя она так четко все выговаривала:
— Ну надо же, — сказала она. — Я ведь говорю: КОФЕ С МОЛОКОМ или НЕ СЛИШКОМ КРЕПКИЙ… Неужели это может быть кому-то не понятно?
Итальянцы ей показались вполне дружелюбными, хоть и несколько туповаты.
Вечер прошел на удивление мирно. Словно сам отъезд благотворно сказался на нашем с ней общении. Заметив, что мама устала, я отвезла ее в отель, а сама собиралась в одиночестве еще немного поболтаться по городу, выпить парочку стаканов вина в каком-нибудь баре и подумать о маме, о себе, о Флоре, о наших ожиданиях и планах и о том, какие фокусы с нами выкидывает жизнь. Можем ли мы сами на что-нибудь повлиять или происходит лишь то, чему суждено случиться? Я поймала себя на том, что думаю стихами, как это всегда делала она: