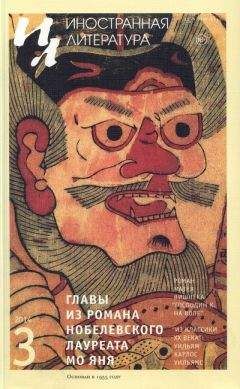Эльке Хайденрайх - Современный немецкий рассказ
— Ладно, — согласилась я. — Тогда пошли.
Я взяла ее сумку, а она стала шумно опускать жалюзи в квартире.
— Паспорт взяла? — спросила я.
— Разумеется. Думаешь, я совсем выжила из ума?
И неожиданно она весело запела:
Ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут…
Туда бы! туда
С тобою, мой милый, ушла навсегда![1]
Когда я была маленькой, мы с мамой много пели. Она знала наизусть массу стихов и читала их при каждом удобном случае. Я запомнила это как очень счастливое время, хоть мне никогда не позволялось залезать к матери на колени, приходить к ней в постель, я даже не смела брать ее за руку. Казалось, по какой-то странной причине она навсегда запретила себе любые проявления нежности. У моего отца были две любовницы: молодая кичливая блондинка и приветливая продавщица его возраста, он регулярно бывал у них и частенько оставался на ночь. В таких случаях он говорил что-то вроде: «Я сегодня у Вальтера» или «Не жди меня, я переночую у Отто». А мама отвечала: «Скажи Вальтеру, чтоб он так не душился — от тебя за версту разит, когда ты от него возвращаешься» или «Не забудь прихватить для Отто шелковое белье из своего шкафа». Тогда я не понимала, что это значит, и только посмеивалась — у моего отца было пятеро братьев, все большие оригиналы, поэтому я с легкостью могла себе представить их в любой роли. Дядя Отто работал бухгалтером, он был единственным из братьев, кому приходилось носить галстук и костюм, и за это они прозвали его Франтом. Дядя Вальтер чересчур много пил, у него было прозвище Пивная Душа. Дядя Герман изготавливал жалюзи, его называли Гармошкой, дядя Фриц работал реквизитором в театре и звался Старьевщиком, набожным был только самый младший из братьев, дядя Тео, он частенько ходил в церковь и непрестанно что-нибудь жертвовал на благотворительность, само собой, его прозвали Иисусом. У моего отца было прозвище Весельчак, потому что он всегда был в отличном настроении, за исключением того времени, что проводил с нами дома. Зато иногда он брал меня с собой, это случалось на Рождество, день рождения бабушки или мой собственный день рождения — на всех этих праздниках присутствовали его братья с женами, они много пили и веселились. Мне больше всего по душе был Старьевщик. Нередко он приносил мне из театра маленькие шляпки с перьями, расшитые бисером перчатки или деревянные башмачки. «Это еще что такое?» — презрительно спрашивала мама, если я забывала хорошенько припрятать подарок, после чего он оказывался на помойке.
Уже в машине я ее спросила:
— Из папиных братьев еще кто-нибудь жив?
— Иисус, — сказала мама. — Я это знаю от тети Карлы, мы с ней иногда перезваниваемся.
У отца было еще две сестры — тетя Карла и тетя Паула. Тетю Карлу я видела в последний раз, когда мне было пятнадцать, на похоронах отца. Она горько рыдала, то и дело обнимала маму, и, к моему удивлению, мама охотно и с нежностью отвечала на эти объятия. Тогда тетя Карла была еще рослой, красивой женщиной, а теперь ей уже, должно быть, за восемьдесят. Муж ее не вернулся с войны, и, когда наступил мир, вместе с тетей Паулой, бывшей замужем за полицейским, они открыли небольшую лавку, где торговали всем для рукоделия. Лавка просуществовала довольно долго. Время от времени мама вязала мне что-нибудь из шерсти, купленной у тети Карлы и тети Паулы. Вязать она любила, хоть и не очень умела. После смерти отца мы перестали с ними видеться. Мама переехала в маленький городишко на юге, меня же до окончания школы отправили в интернат, и я больше ни с кем из них не встречалась, за исключением тети Карлы, которая не то два, не то три раза меня навещала. В папиной семье было не принято вести переписку, так что постепенно всякое общение с ними прекратилось, тем не менее я частенько вспоминала о Старьевщике, Пивной Душе и о Франте.
— Как это так вышло, что у нас никого не осталось… — проговорила я. — Твоих сестер уже нет, кузина Маргарет не в счет, она та еще гадина. А ведь раньше у нас была большая семья — у папы семеро братьев и сестер и у тебя пятеро, и куда все подевалось?
— Испарилось, — сказала мама, надевая темные очки с изогнутой оправой. — Вальтер умер от рака, Отто — от инфаркта, Фриц попал под трамвай, у Германа было что-то со слепой кишкой, Паула спилась. Живы только мы с Карлой.
— Вы с ней общаетесь?
— Редко.
О маминых родственниках мне было известно капельку больше, и я лучше их знала. Почти все они умерли, кроме дяди Вилли, с которым мама не хотела знаться, потому что он был нацистом. Как будто кто-то из них не был. Но он и правда особенно отличился — к примеру, донес на своего отца, будто тот высказывался против режима, из-за чего деда отправили в лагерь. После возвращения дед очень болел и вскоре умер. Когда дядя Вилли приехал из Польши, кроме его жены Марии, с ним никто не стал разговаривать.
— В моей семье было четверо одноногих, — весело заявила мама. Это прозвучало так неожиданно, что я чуть было не проехала поворот на Базель.
— Это что-то генетическое? — спросила я. — Как-то связано с тем, что они были родственники? Тогда мне еще повезло.
— Дядя Генрих страдал диабетом, — начала мама. — Он довольно рано лишился ноги. У дяди Морица ногу тоже отрезали из-за рака костей. Дядя Мориц был намного богаче, чем дядя Генрих, он посылал брату свои дорогие костюмы, чтобы тот их донашивал. Но у него-то была ампутирована левая нога, а у Генриха правая, и Генрих ни за что не хотел носить брюки, у которых на левой штанине оставался залом, оттого что Мориц ее закатывал. Из-за этого они часто ссорились.
— А еще двое?
— Дед. Он был сапожником да еще занимался крестьянским трудом, жил в Вестервальде. И вот однажды он из превосходной кожи сшил себе пару башмаков, но когда их надел, они оказались малы. И он впал в такую ярость, что топором отрубил себе пальцы на ноге. В результате ногу тоже пришлось ампутировать.
Ах вот, значит, в кого мама пошла! Теперь мне было ясно, откуда у нее эти приступы гнева. Со мной она была страшно нетерпелива, особенно когда у меня начался переходный возраст. Как-то раз она меня до крови избила кочергой, но потом отказывалась это признать. Я показала кровоподтеки священнику, у которого незадолго до этого прошла конфирмацию. Вскоре я уехала из дома в интернат. Пять лет мы с ней не виделись и не поддерживали никакой связи. Только тетя Карла посылала мне иногда посылочки с печеньем, конфетами да немного денег.
— Дядя Юпп тоже был одноногим, — сказала мама. — Потерял ногу при взрыве в России. А потом умер в лагере.
Мы немного помолчали, и тут я подумала: вот возьму и спрошу ее. Ведь столько лет прошло, так почему надо все время обходить эту тему, почему хоть раз в жизни не спросить ее прямо, вдруг она скажет: «Мне жаль, что так вышло». И я задала ей этот вопрос:
— Почему ты меня тогда так зверски избила?
Она ответила моментально:
— Я тебя не избивала.
Я молча увеличила скорость, трасса была совершенно прямой и почти что пустой, залитой солнечным светом. Впереди виднелся мост.
— Значит так, — сказала я. — Если ты хоть раз, хоть один-единственный раз не признаешь, что тогда меня зверски избила, то я, черт возьми, врежусь в тот мост.
Она молчала, я вела машину, а мост вырастал перед нами. Я перестроилась в левый ряд, держа курс на центральную опору моста, и внезапно сделалась совершенно спокойной.
А хоть бы и так, думала я. Может быть, вся эта история с Флорой — очередная ошибка, и тогда уж покончить все разом. Я была на удивление спокойна, чувствовала даже нечто вроде облегчения, как будто для этого решения не требовалось особенной смелости, словно бы кто-то принял его за меня. Я лишь не сводила глаз с опоры моста, ждала грохота и думала о том, что моя жизнь, как это говорится, сейчас оборвется, и надо же так случиться, что я умру вместе с матерью, нас с ней вместе похоронят, мы будем лежать рядом, без любви, и так на веки веков, аминь. Мне вспомнилось: «Восстань и страх природный утиши. / Я не скелет, как мыслят суеверы…»[2], и это мне доставило почти удовольствие. Мост приближался. Мать схватила меня за руку и закричала:
— Да, но что мне было делать? Я просто не могла с тобой справиться! Слишком рано ты начала крутить романы с мальчишками.
Я притормозила, взяла правее, и мы обе перевели дыхание.
— С тобой было трудно, — сказала она. — А я была так несчастна.
— И поэтому ты до крови высекла маленькую девочку?
— Ну, уж прямо до крови. И не такую маленькую, по крайней мере, достаточно взрослую для того, чтоб обжиматься по углам да целоваться. Как твой отец.
Я вспомнила те невинные детские поцелуи, которыми обменивалась с мальчиками после танцев, ведь мне так хотелось любви, которой не было дома. И за это она меня избила.