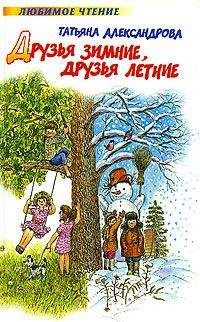Марк Соболь - Театр теней
Меня и вправду накормили — почти как в «Астории». Я умял все до крошки, но еда оказалась лишенной вкуса.
А потом ко мне в барак явился с повинной Земский: он, видите ли, хотел преподнести Максимову сюрприз…
На утреннем разводе я впервые не ощутил ни озлобления, ни приступа тоски. Все опостылело. А дня через три понял: дохожу. Впадаю в деменцию — приобретенное слабоумие. Тупое равнодушие: голод вроде ноющего зуба, ночью притиснешься к соседу по нарам — не сказать чтоб тепло, но кое-как подремать можно. На работе пила то и дело застревает, будто плохо разведена…
Весна — пора всеобщего оживления: ручьи, почки на деревьях, пичуги… А люди, выдержавшие зиму, неожиданно стали поодиночке умирать: в санчасти, на лесоповале, ночью в бараке. Я еще мог допрашивать себя: как же ты смеешь, падла, безучастно смотреть на гибель товарищей? А что делать, когда иссякла энергия: нечем переживать, нечем жить…
В субботний вечер меня вызвали на вахту.
— Аллюр три креста! — скомандовал посыльный. — Там к тебе сеструха приехала.
— Не бери на понт. Сестре одиннадцать лет.
Шутник, думал я, плетясь к вахте. Все сытые шестерки любители пошутить. За окошком из мутного стекла курил папиросу дежурный — тот самый, что угощал меня сладким чаем. Кто-то сидел в углу, но трудно разглядеть…
Дуся не кинулась ко мне — она на меня обрушилась. Прильнула мокрой щекой, ладони ее упали на мои плечи, как тяжелые вздрагивающие птицы.
— Что будем делать? — спросил дежурный.
Пока Дуся и я сами себя приводили в сознание, он медленно расхаживал по вахте и не говорил, а гудел:
— Хитрован у вас в Мастерских лекпом[3], все рассчитал. Смастырил девке подозрение на триппер. Диспансер уже закрыт, завтра воскресенье, у них выходной, в понедельник медицина не подтвердит, с вечерним этапом отправят обратно. Две темных ноченьки ваши. Только вот куда я вас дену?
— Спасибо! — сказал я. — Великое спасибо. Но как вы узнали?
— Она спросила: здесь такой-то? Я сразу: вы какой нации? Татарка. А я, парень, когда с кем побеседую, потом каждое слово помню, вот и сделал вывод. Ну, дальше, слово за слово, хреном по столу… Ловкач у вас лекпом, Эмиль Кио!
Лекпомом Центральных мастерских был профессор Ганнушкин.
Дежурный, посоображав, дал нам ключи от кладовки в прачечной, но предупредил, чтобы на развод выходить и, ежели кто чего пронюхает, пенять на себя.
А я ничего не мог. Ничегошеньки. Дуся жалела меня и, конечно, себя. И плакала.
Агибригада скончалась от малокровия. Нюра Пантелеева, моя инженю-кокет и подружка Дуси, сама вызвалась, чтоб Гейман утих, прибрать в его квартире. Абрама Штуца увезли в тюрьму на Явас, кто-то стукнул, что в натуре он Семен Королев…
Прошло полвека и еще сколько-то; забыл, как выглядит Дуся, а нервное тепло ее рук почему-то памятно… Нам даже попрощаться не удалось, я мантулил в лесу, когда ушел этап. И на этом все, занавес.
Свою судьбу я понимал: зимой, пожалуй, перекантуюсь, а к весне капец. Лагерное кладбище, на колышке бирка с фамилией — каторжные номера были еще непредставимы, — годы рождения и смерти через дефис… Впрочем, я видел бирки, где ни дат, ни фамилий, всего одно — крупными буквами — слово: БЕГЛЕЦ.
И никто не узнает, где могилка моя…
Чуток надежды придало мне великое — судя по наглядной и прочей агитации — научно-техническое изобретение: лучковая пила! Ее внедряли победоносно и напористо, ею снабдили сразу пять бригад, которым тут же снизили нормы. Меня, как я ни протыривался в энтузиасты и новаторы, до «лучка» не допустили.
Как-то ночью я вышел, прошу прощения, отлить. На площадке перед бараками, под светом ущербной луны, стоял высокий широкоплечий человек в длинной шинели и буденовке. Одинокий, как памятник герою гражданской войны.
Он окликнул меня по имени. Я вздрогнул — кто он, откуда меня знает?
— Почему такой вид?
Спросил бы чего-нибудь полегче… Он сунул два пальца в рот, коротко по-командирски свистнул. Примчался дежурный воспитатель. Человек в буденовке приказал:
— Баню! Отмыть и выжарить. Доставить ко мне в кабинет.
Недавно я видел во сне исполинские часы — с изнанки, где со скрежетом проворачивались шестерни, гулко падали молоты, натужно скрипели пружины. Какая-то сила затягивала меня внутрь, но я, упираясь, кричал, что уже четвертован и колесован этим ненасытным нутром, что железные зубья шестерен меня там перемололи, сжевали — и выбросили…
— Ты стал стар, — сказал я себе наутро. — Ты видел само время. Как мы в нем уцелели? Да просто потому, что каждого кто-то когда-то спас. Выручил, защитил, помог, вовремя произнес какое-то слово — много ли нам порой нужно? Небесная, так сказать, канцелярия, ведущая учет человеческих мыслей и поступков, знает: в России, стране сейсмических жизнепотрясений, кровью умытой, палачей все-таки меньше, чем спасителей.
…Оказаться одному в бане, да еще специально для тебя жарко натопленной, — высокое наслаждение! Почти что воля. Кем бы ни был дядька в буденовке, он Deux ех machina, явившийся из античных времен «бог из машины», предвестник финала драмы.
В кабинете я разглядел, что у него темные усы и шевелюра, как бы посыпанные солью крупного помола.
— Вы приезжали в управление с агитбригадой, у нас шло какое-то совещание, — сказал он. — Я тут полистал ваш донос: роман «Пещера Лихтвейса»! Что вы смотрите на меня как баран… хотя ворота и вправду новые. Я начальник 20-го — Докторович.
Самое громкое имя в Темлаге! Зека по «седьмому-восьмому», бывший директор крупного треста в Минске. Шла молва, будто у него на лагпункте (позабыл номер) люди живут — не тужат: хлеб в тумбочках плесневеет! Понятно, что вранье, но — захватывающее.
Думаю, он был просто настоящим хозяином, потому и берег своих работников. С доходягами и «шакалами» не отрапортуешь: план перевыполнен, побегов нет…
— Третий отдел длиннорукий и злопамятный, — продолжал Докторович. — Вас надо упрятать подальше и поглуше. Неподалеку наша 9-я подкомандировка, лесоповал там закончили, но вывозки на годок хватит, эта работа полегче. Блатной должности дать не могу, все они для политиков стали запретными. Вопросы есть?
— Один. Куда делся Максимов?
— Убыл в распоряжение ГУШОССДОРа. Юное детище ГУЛАГа, Управление шоссейных дорог. Кстати, о дороге: нате-ка посошок.
Докторович протянул флягу с крышкой-стаканчиком. Впервые в жизни я глотнул чистый спирт: как будто тебя повесили, но в последний момент оборвалась веревка…
…Я проработал тачечником на вывозке дров до дня освобождения. Об этом кусочке времени — особая повесть, здесь же расскажу коротко. Бригада наша, у всех 58-я статья и весь набор пунктов, была стахановской — не без помощи учетчиков, им тоже нужна большая горбушка и первый котел довольствия. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенства. Стахановское движение взрасло как раз в ту пору, стало делом доблести и геройства и родило невиданного размаха туфту (сегодня сказали бы: показуху и приписки). На работе больше всего устают ноги, за световой день пробегаешь километров тридцать по неструганым, рвущим обувку доскам. (Если б не лапти — изобретение гения! — если бы Земский, тоже попавший на Девятку, не плел их для меня столь артистически — пары хватало на неделю, — пропали б мои ходули, до вас не дотопал бы. В «че-те-зе» армейского или лагерного образца ноги опухают и гниют, люди постарше быстро переходили в инвалидную команду. А сама тачка с дровами не так уж тяжела, главное — приловчиться удерживать ее в равновесии.
И был вечер. Кажется, в конце августа.
Мы строем по двое шли от вахты к бараку. Обочь дорожки торчал какой-то военный, шмонал нас глазами.
— Этого я тебе никогда не прощу! — прошипел он, и я узнал Комгорта. — Опустился, понимаешь, до лаптей!
— Сам дурак! — бросил я как бы в затылок идущего впереди.
— Возьмешь в санчасти освобождение…
Никто не должен был знать, что мы с Валерием знакомы. Но лекпом дал мне заранее изготовленную справку и молча сунул четыре флакона валерьянки для застолья. Всю ночь у меня под ребрами гремела барабанная дробь, мешала заснуть.
Нам удалось встретиться на короткие полчаса, когда все из КВЧ ушли обедать. Валерьянкой — она хорошо сочеталась с именем Валерий — мы наскоро заправились в сортире, чтоб никто не учуял запаха.
— Меня вызывает Москва, — сказал Комгорт. — Куда назначат, пока не знаю. Освободишься — литер бери прямо ко мне, где б я ни оказался. Буду ждать, понимаешь, как та Пенелопа. В Москве навещу твоих, давай адрес и телефон.
— Каким чудом ты здесь?
— Напросился в ревизоры. Из-за тебя, понимаешь, три лагпункта ревизую — для понта, как Хлестаков. Держись, очень прошу! Я тебе у нас на Центральных зачеты подкинул, остается немного…