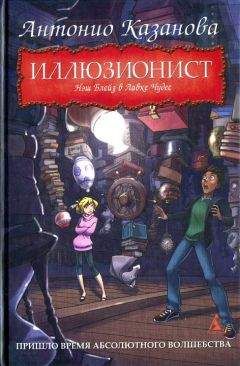Борис Евсеев - Площадь Революции: Книга зимы (сборник)
– Так иметь или жениться? – Воля снова тихо прыснула. – Ты выражайся поточней, мил друг.
– Как вы мне это укажете, так оно и будет. А пока – я приглашаю вас! Приглашаю сегодня же… В этот, как его…
– Нет уж. Позволь я тебя приглашу. Родственников у меня в Москве теперь нету. А показать жениха я обязана? Обязана. Ну обычай, блин, – еще раз, но уже сдержанней, прыснула Воля, – у нас такой.
– Уи, уи, мадам. Обичай, бли-ин, обичай!
– Обычай-то обычай. А только неувязочка вроде выходит.
– Неувяз? Я не поняль, мадам: «неувяз в очках»?…
– Ох. Да перестань ты кривляться! Ну скажу проще: ерунда получается. Ты ведь сам сказал – «родственник». А сам – жениться. А тут тебе, дружок, не Бельгийское Конго. На родственницах у нас не женятся. Имбридинг случиться может. Ву компренэ?
– Но, но, никакой не имбридинг! Я сейчас объяснять! Я вам есть, мадам, именно седьмая вода на киселе! Дедушка моего отчима биль женатый на ваш троюродный бабка! Отчим, понимаете, отчим! Так что я есть не родной родственник!
– А не врешь, бельгийская морда?
– Вот вам хрест, мадам! Вот вам хрест…
– Ну тогда ладно, тогда двинули на смотрины.
«Лига либреттистов» пылала темным мрачноватым огнем. Такое освещение было придумано специально, чтобы создавать впечатление: будущие либретто и оперы возникают как бы из небытия. И наша жалкая, недостойная легендарных оперных времен действительность ничуть на возникновение либретто, а следовательно и опер, не влияет.
Правда, кое-кому свет в «Лиге либреттистов» напоминал огни Тартара. А особо продвинутым – огни подземелий в староевропейской «Конгрегации Святого Креста». Однако руководство Лиги крепко стояло на своем: только в таком слабо естественном, даже слегка потустороннем свете и могут зарождаться современные либретто и оперы!
– Оу-ва, шарман! Ето есть современни «русски подполье»? – петушился Жан-Клод-Ив.
– Да нет. Подполье у нас… Ну, в общем… в другом месте оно теперь… – смутилась Воля.
– Музей Достоевски? Сладки каторга? Душевна болезн? – выпытывал и выпытывал доставучий Клодюнчик.
– Ой, ну да. Только отстань. Достоевский. Каторга. Подполье. Хотя, если честно, главный-то подпольщик у нас теперь в светлых хоромах сидит…
В коридорах и комнатах Лиги никто им не встретился. Метнулась, правда, горбатой тенью, всюду и везде – в залах, на тусовках, фуршетах – к Воле придиравшаяся, бывшая видная московская комсомолка, а ныне чтица № 2, лысоватая и, в целом, бледнопоганочная Ната Дурдыка. И все, и ни души.
– Кому жениха показать, блин горелый? – вздыхала огорченная Воля.
Наконец дотопали до небольшого, но уютненького зала. Сцена располагалась глубоко внизу, на дне. Была она едва освещена. Зрительские же места – и амфитеатр, и партер – наоборот, нависали над сценой черно-грозными, с зеленцой, утесами. Такое непривычное расположение сцены и зала призвано было непрестанно напоминать о прародительнице оперы, о греческой трагедии. И символизировать: для «Лиги либреттистов» главное – зритель. Именно в силу этого – он наверху. «Чего зритель запросит – то и давать будем! Для него работаем, для него преем, пыхтим!» – настаивало руководство Лиги.
Всмотревшись в сцену и в зал внимательней, Воля слегка даже удивилась. Никакого приглашения на безусловно готовящееся чтение она не получала. А должны были пригласить, лохи!
Однако вслед за легкой неприязнью она, при виде места для речитативов и арий, как всегда, закрыла от счастья глаза.
Тут даже остатний мерклый свет, новомодно, электрозмейками, струивший себя и на сцене, и в зале, – угас. Ощутив это и с закрытыми глазами, Воля быстренько их раскрыла…
Посередке, на опущенной вниз сцене засветился здоровенный – дикий по бокам, а сверху гладко обтесанный – камень. На камень, кряхтя, взобрался кто-то едва видимый и лирическим баритоном спел:
– Господа! Нас посетила несравненная Воля Рокотова. Виват и слава госпоже Рокотовой! Виват и слава этой начинающей либреттистке № 118! Либретто Воли Васильевны – на пюпитр!
В другой раз Воля смешалась бы и разнервничалась: была, несмотря на веселость, по-русски застенчивой, иногда – закрепощенной. Однако сейчас все ей стало по барабану. Показалось: сию минуту, вместе с чтением первых строк либретто, выступит из тьмы и так и останется стоять на опущенной вниз греческой сцене, всем и каждому открытый, однако и до сей поры как следует не услышанный Евстигней Фомин. Искавший мелодию, которая могла бы оживлять мертвых, оскорбленный опалой и пренебрежением, сейчас он взмахнет рукой, и побежит – как любовная дрожь по телу – струнная рябь по оркестру!
Либретто все не несли. Воле вдруг вспомнился сочиненный вчера кусок текста из второго акта.
«Откуда этот Черный Либреттист ко мне в тетрадь запрыгнул? Вроде я его не планировала. И в документах про него нет ни слова. А вот засел же в мозгу… Черный, черный… Может, арап? Или эфиоп при дворе? Но для тогдашнего эфиопа весьма некстати либреттками заниматься…»
Тут опять проклюнулся ведущий на камне. Голос его стал резче, неприязненней.
– А мы вам сюрприз приготовили, Воля Васильевна. Да-да. Небольшой такой сюрпризон. Либретто ваше последнее мы у вас стянули и слегка переделали. Да-с. Ерунды в нем многовато оказалось. И поверьте: давно уж хотелось предъявить это хилое «твореньице» (теперь опытными либреттистами из беспомощного состояния частично вызволенное) нашему гражданскому обществу. Ждали только, когда вы сюда с очередным мужиком заявитесь.
От неправды сказанного и от возмущения Воля грубо крякнула.
– О да, я есть муйжик! Уи, месье: муйжик, муйжик! – обрадовался Клодюнчик, уже вскарабкавшийся вслед за Волей в круто нависающий над сценой зал.
– Тихо ты! Заткнись… – шикнула на жениха, как на премьере всамделишней оперы, Воля.
– Вы только послушайте, уважаемые зрители, как госпожа Рокотова в черновом варианте своей либреттки выкаблучивается, – обратился к невидимому гражданскому обществу глашатай с камня. – Вот, пожалуйста, читаю прежний, не правленный нами текст: «1800 год. Евстигней Фомин задумывает новую оперу. Однако чувствует: крадется к нему смерть». Ну, это еще терпимо. А дальше-то, дальше! – лирический баритон возмущенно прокашлялся. – «Тут посетило Евстигнея желание – смерти избежать». То есть бессмертным стать. Каково? А нас, то есть нашу Лигу, вы спросили? Нравится нам такое дело, нет ли? Ну я дальше читаю. «Захотел он и другим в этом деле помочь. И задумал отыскать мелодию бессмертия. Такую, какую искал греческий певец Орфей в одной из прежних Евстигнеевых опер.
Вышел Евстигней на набережную Невы и сказал речетативом: «Стал я слушать воду, стал вдыхать частички мха и крохотки света. Вот она, искорка бессмертия, в бегущей неостановимо воде!» Но это еще что! Читаю дальше: «И, придя домой, стал Фомин костенеющими пальцами мелодию эту в партитуру свою вправлять…»
– Каково? Ну просто бестолочь, и все тут. И на кой хрен вам этот канониров сын, этот полукрепостной Евстигней? Выпендривались бы, так уж на европейский манер. Ну что-нибудь этакое про античного певца-солиста. Но ведь не учли вы, госпожа Рокотова, ни строчки из либретто синьора Кальцабиджи к опере Глюка «Орфей»! Ободрали бы его легонько. И хорошо вышло бы, и славно. И не просек бы никто. Или из оперетты Жака Оффенбаха, на ту же темку, можно было б что-нибудь такое либреттовидное стянуть. Ну, на худой конец, выдрали б кусочек текста из музыки Хенрика Шюца. А? Из его балета с пением. Из «Орфея и Эвридики». В городе Дрездене в 1638 году представленного…
– Я старика Шюца, к вашему сведению, обожаю! Только чего это я из него выдергивать буду? Да и музыка к его балету утеряна! А музыка и текст – нераздельны! – крикнула сверху вниз негодующая Воля.
– Утеряна, говорите? Вот и надо было музыку эту найти. А вы вместо этого какой-то лабудой занялись. Бессмертное существование ищете… Вы сами-то в это музыкальное бессмертие верите? Ась? Не слышу! Стало быть, не верите. Ну мы-то – ясно. Мы-то определенно ни во что верить не должны. Цену жизни и цену смерти определяет рынок. Так что либреттку вашу мы как раз в рыночном смысле и переработали. Кусочек даже и срепетировали. Правда, пока без музыки. Верней, под музыку Глюка. Ну там, «Хор фурий» и прочее, помните ведь? Срепетировали, и стало ясно: наш вариант куда сильней. Сейчас мы вам его представим. Я сам вместо оркестра напевать буду, в микрофон. Ну, пару-тройку «глюков» через синтезатор подпустим. Ладушки? Мы же не знали, что вы именно сегодня заявитесь. А то и хор, и исполнители главных партий – на месте были б… А так, одне балетуны тут у нас вечерами по темным углам обжимаются.
– Валяйте как есть, без музыки! – крикнул кто-то из невидимых зрителей. – Одним балетом, валяйте! Мочи нет терпеть!
– А по-моему, надо раз и навсегда прекратить это музыкальное хамство. Какой такой Фомин? Мы этого самого Фомина знать не знаем! Даешь «Розенталя» с Десятниковым! И этого, как его… – серебристый голосок невидимой, но скорей всего миленькой особы, сидевшей где-то значительно выше Воли и Клодюнчика, на миг пресекся от гнева.