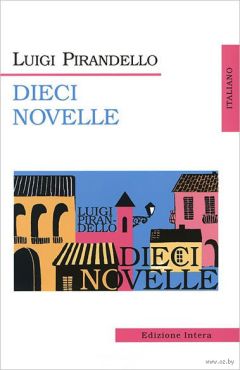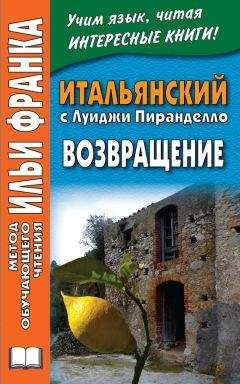Луиджи Пиранделло - Записки кинооператора Серафино Губбьо
Направлены были сюда эти люди, все эти актеры кинофабрикой «Космограф», на которой я вот уже восемь месяцев состою оператором; а режиссером, который возглавлял съемочную группу, был Никола Полакко или, как его тут прозывают, Коко Полак, друг детства и товарищ юношеских лет в период учебы в Неаполе. Своим нынешним местом я обязан ему, равно как и счастливому стечению обстоятельств: именно в ту ночь я с Симоном Пау очутился в ночлежке.
Но в то утро, повторяю, мне бы и в голову не пришло, что все это закончится тем, что я стану водружать на штатив съемочный аппарат, как это делали двое пришлых мужчин, и что Коко Полак предложит мне этим заняться. Смекалистый, однако, малый этот Коко, он без труда узнал меня, хотя я, признав его сразу, приложил, казалось бы, все усилия, чтобы он не заметил меня в этом убогом нищенском заведении, ибо я видел, что он блещет элегантностью Парижа и держится как непобедимый полководец в окружении всех этих актеров, актрис и вольнонаемных рекрутов нищеты, которые в белых полотняных рубахах, радуясь нежданно привалившему случаю заработать, окончательно потеряли остатки разума. Он был удивлен, застав меня здесь, но удивлен лишь тем, что я оказался в приюте в столь ранний час, и поинтересовался, откуда мне стало известно, что он со своей труппой будет производить там съемки. Я оставил его в убеждении, будто оказался здесь чисто случайно, как обычный зевака. И познакомил его с Симоном Пау (человек со скрипкой в суматохе куда-то незаметно исчез); я задержался и с отвращением смотрел, как нескладно комбинируется убогая действительность ночлежки с идиотской выдумкой, которую Коку разыгрывал на ее фоне.
Но может быть, это сейчас я испытываю отвращение. А в то утро мне, скорее всего, было любопытно впервые наблюдать за тем, как снимается кино. И все же, как ни велико было мое любопытство, в какой-то момент я отвлекся и уже не сводил взгляда с одной из актрис, которая вызвала у меня другой, еще больший интерес.
Несторофф… Неужели это она? Минутами казалось — она, потом снова — нет, не она. Эти огненно-рыжие, цвета меди волосы, строгая, почти аскетическая манера одеваться — все это было на нее не похоже. Но важная, царственная стать хрупкого, беспредельно изящного тела, что-то хищное в движении бедер, высоко поднятый подбородок и чуть склоненная набок голова, нежная улыбка, которая появлялась на свежих, словно два лепестка розы, губах, едва кто-нибудь обращался к ней; эти глаза, необыкновенно, до странности широко распахнутые, голубовато-зеленые, со взглядом пристальным и в то же время пустым и холодным под тенью длинных ресниц — все это было ее; ее была и эта непередаваемая, ей одной присущая уверенность, что на все, что бы она ни сказала, о чем бы ни попросила, каждый ответит ей «да».
Варя Несторофф… Неужели она? Она теперь киноактриса? Актриса на кинофабрике?
В голове замелькали воспоминания: Капри, тамошнее русское поселение, Неаполь, нескончаемые шумные сходки молодых артистов, художников, скульпторов, собиравшихся в каких-то необычных, странных клубах, залитых солнцем и яркими красками юга, и дом, милый деревенский дом — маленькая вилла в Сорренто, куда эта женщина принесла смятение, разруху и смерть.
Когда, дважды повторив сцену, ради которой труппа выехала в ночлежку, Коко Полак пригласил меня зайти к нему на «Космограф», я, будучи не в состоянии разрешить свои сомнения, спросил у него — не Несторофф ли, случайно, та актриса.
— Да, дорогой, — ответил он мне и фыркнул. — Тебе, вероятно, известна ее история?
Я кивнул.
— Но ты не знаешь, что было потом! — воскликнул он. — Приходи на «Космограф», я тебе такое расскажу! Губбьо, не знаю, чтобы я отдал, чтобы убрать эту женщину из своей жизни… Но легче…
— Полак! Полак! — раздался вдруг ее голос.
И, судя по тому, с какой поспешностью Полак бросился на ее зов, я понял, что она обладает огромной властью на кинофабрике, с которой она заключила контракт на амплуа примадонны и где была одной из самых высокооплачиваемых актрис.
Спустя несколько дней я отправился на «Космограф» только затем, чтобы послушать продолжение истории этой женщины, увы, мне слишком хорошо известной.
ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ
I
Милый деревенский дом, дом стариков с его неистребимым запахом семейных воспоминаний, здесь каждый предмет старинной мебели, пропитанный этими воспоминаниями, был уже не просто предметом, а неотъемлемой частью жильцов, и при прикосновении к вещам ощущалась такая милая, спокойная, надежная плоть бытия.
В комнатах и вправду стоял особый запах, который, как мне кажется, я чувствую, когда пишу о доме; запах прежней жизни, насыщавший каждый предмет, каждую вещь, хранившуюся здесь.
Вижу немного чопорный зал с гипсовыми панелями под старинный мрамор — одна панель красная, другая зеленая, обе с лепниной; правда, за долгие годы наивного притворства этот «мрамор» кое-где вздулся и облупился, и зияли пятна голой штукатурки, они добродушно шептали мне:
— Ты вот бедный юноша, одежда на тебе расползается по швам, но, видишь, и в господских домах то же самое…
Что да, то да! Бывало, обернусь, взгляну на консоли, которым, казалось, даже зазорно прикасаться к полу своими раззолоченными ножками в виде паучьих лапок… Мраморные полки, завершавшие их, слегка пожелтели, а в зеркале, висевшем под наклоном, отражались две безнадежно застывшие корзинки с фруктами, тоже из яркого мрамора: инжир, персики, лимоны, одинаково рассыпанные с обеих сторон корзинок, настолько четкие в зеркальном отражении, словно их было в два раза больше.
В застывшей зеркальной поверхности отражался тихий покой, царивший в доме. Ничто, казалось, не могло потревожить его. Это подтверждали и стоявшие точно посередине между фруктовыми корзинками бронзовые часы, в зеркале была видна только их задняя, заводная часть. Часы сделаны в форме фонтанчика: ограненный в виде спирали горный хрусталь вращался не переставая, с механическим однообразием. Сколько воды утекло из этого фонтанчика? Однако раковина под ним так никогда и не наполнилась.
Такой, в общем, был зал, из которого имелся выход в сад. (Из одной комнаты в другую вели невысокие двери, которым, похоже, было прекрасно известно, для чего они здесь служат, и каждая знала наперечет все вещи, за нею хранящиеся.) Комната с выходом в сад, всеобщая любимица и в зимнюю пору, и летом. Пол в ней выложен большими квадратными терракотовыми плитками, местами выщербленными за давностью лет. На стенах обои в розочку, слегка выцветшие, как и тюль, тоже в розочку, на окнах и остекленной входной двери, через которую видна площадка крутого деревянного крыльца, низкий зеленый забор, решетка беседки, увитой виноградом, в садике возле дома, неподвижном, словно зачарованном тишиной и светом.
Свет сочится сквозь густую зелень и ярко блещет между перекладинами маленьких ставень, но по комнате не рассеивается — она остается в прохладной полутьме, насыщенной пряным ароматом трав, плывущим из сада. Какое испытываешь счастье, как очищается душа, стоит только полежать здесь немного на старом диване с высокой спинкой и круглыми, когда-то зелеными, а нынче полинявшими валиками.
— Джорджо! Джорджо!
Кто там зовет из сада?
Ах, это бабушка Роза, которая, даже орудуя длинным удилищем, не может дотянуться до «ночного красавца», цветка жасмина: растение вымахало и поползло вверх-вверх по забору.
Как она любит его, бабушка Роза, этот жасмин! В стенном шкафу в коробке у нее хранятся длинные сухие стебли архиерейской травы, и каждый день перед выходом в сад она достает один такой зонтичный стебель. Натаскав удилищем цветков жасмина, она усаживается в тени беседки, водружает на нос очки и нанизывает жасмин, один цветок за другим, на острый зонтичный стебелек, пока не получается пышный белый букет — «белая роза», благоухающая сильно и нежно; с религиозным благоговением она несет ее в свою комнату и ставит на комод перед портретом единственного сына, умершего много лет назад.
Такой вот этот дом, милый, душевный и весь в себе; он вполне доволен жизнью, протекающей в нем, и нисколько не завидует гомону и сутолоке за его стенами, где-то далеко отсюда. Он стоит, словно укрывшись ото всего за зеленой стеной листвы, и даже не желает видеть перед собой море и потрясающий вид на залив. Ему бы хотелось отгородиться ото всего, остаться в стороне, приютившись в зеленом пустынном уголке, за пределами мирской жизни.
Когда-то на столбике калитки висела мраморная табличка с выбитым на ней именем владельца: «Карло Мирелли». Дедушка Карло подумал и снял ее после того, как смерть в первый раз нашла дорогу и пробралась по ней в это неприметное жилище, затерявшееся в деревне на никому не ведомых путях, и унесла с собой сына, которому незадолго до того исполнилось тридцать и который сам успел стать отцом двух малюток.