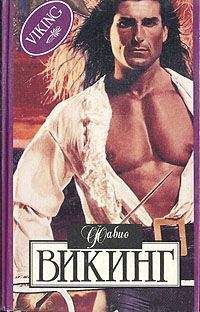Теодор Вульфович - Моё неснятое кино
Я угомонился, и через некоторое время кое-что стало складываться. А еще через полчаса появился из своей каморки сам начальник цеха, осмотрел заготовки, (весь брак мы успели вынести на помойку), посмотрел строго на меня, на Анну Григорьевну и, как опытный врач, поставил диагноз:
— Получится… Со временем, конечно.
Так я стал квалифицированным рабочим, с самой высокой оплатой в цехе, а Анна Григорьевна моей подсобницей.
Этот рабочий трюк решал множество проблем, ведь я опять собирался ехать в Вязьму к отцу.
С Анной Григорьевной мы познакомились гораздо раньше, чем встретились в этом цехе. Задолго до того я видел ее один раз: давнишний приятель отца почти насильно приволок меня в ее замечательную квартиру на Мясницкой, он хотел что-нибудь сделать для моего уже арестованного папы. Велось следствие — назревал большой политический процесс. Это был тридцать пятый год.
— Из ничего… Ты понимаешь, из ничего!.. — кричал он, как будто это я посадил своего папу. — Ты обязательно туда пойдешь! Всенепременно!.. Ведь если кто-нибудь из влиятельных лиц вмешается или даже поинтересуется, то они разберутся, и во всем их процессе и в обвинениях камня на камне останется. Это же все пустышка. Вот увидишь!.. Ты пойдешь туда. Пойдешь!.. И будешь просить!
Надо было идти. Тетка металась, нанимала знаменитого адвоката (еще были знаменитые — не то Брауде, не то Лурье), папин друг искал могучих связей, еще на что-то надеялся, дядька по маминой линии как раз к этому времени был сшиблен со всех своих высоких должностей, и на его ромбы никакой надежды уже не было.
Да и ромбов, кажется, уже не было. Скорее всего, отца тогда и взяли в поисках компрометирующих материалов на самого дядьку. В этой ситуации некогда могучему дядьке лучше всего было бы не рыпаться. Вот он и не рыпался… Я же считал, что все непременно, и непрерывно должны «рыпаться». Я думал, что мой знаменитый дядька должен был ринуться в бой за своего друга и обязательно спасти его. Дядька сгинул первым — его не стало ровно через месяц… Хозяйкой той квартиры, куда меня приволокли, была Анна Григорьевна. А ее муж — тот самый шибко ответственный работник НКВД с ромбами… Тогда еще казалось, что количество этих геометрических фигур в петлицах способно как-то магически влиять на наши судьбы… Потом, годы и годы спустя, на иконе «Спас в силах» я разглядел пурпурный ромб с золотой окантовочкой… Я смотрел и почему-то вспоминал их ромбы… Неужели в этой геометрической фигуре столько мощи? Или это только ее условное обозначение?..
А тогда меня передавали по цепочке — один другому, один другому. Те, что меня привели в дом, сразу куда-то скрылись, а меня вроде бы оставили ужинать… Прошла целая вечность, но я ничего не забыл: ни того вечера, когда сидел у них в столовой — все ждали появления хозяина и шептались, а я не находил себе места от стыда и унижения, ведь мне предстояло просить совсем чужого человека, я даже понятия не имел, как он выглядит, в чужом доме — просить (я даже не знал, как это делается) за самого чистого, на мой взгляд, самого справедливого, самого честного и ни в чем не повинного человека — моего отца, уже арестанта… Я не знал, куда деть руки, куда сесть, что кому говорить…
С самого раннего детства я боготворил своего отца. Всю возможную любовь к рано умершей матери, даже лица которой я не мог вспомнить, к брату или сестренке, которых не было и в помине, всю любовь к окружающему миру, луне, солнцу, звездному небу — всё это вместе взятое я превращал в боготворение моего отца — мужчины с теплыми ласковыми руками, доброй улыбкой и светящимися любовью глазами. Ничего выше и прекраснее я не знал. И не знал, что все это обозначается такими словами…
Меня посадили за стол. Ждали долго (или мне так показалось)… Появился хозяин — как темное облако без лица, только два ромба в петлицах. Сел в торце — нас разделял угол столешницы. Меня, совсем постороннего человека, как бы и не заметил. Он приехал домой ненадолго: поужинать, может быть, немного отдохнуть после какого-то невиданно изнурительного труда. Я почти ничего не ел, не знал, как начать такой трудный разговор, да еще при людях… Да еще все время забывал его самое обыкновенное имя-отчество… А ужин был по тем временам очень хороший. В самом конце хозяйка едва заметно кивнула мне, и я обратился к ее мужу со своей бестолковой и путанной просьбой… Он сначала вроде бы и не понял даже, о чем идет речь… А когда понял, весь как бы окаменел, кожа на лице побелела, натянулась, он ухватил рукой затылок, словно ему туда выстрелили… и я был причастен к этому выстрелу Он что-то буркнул, поднялся (стул с грохотом отлетел в сторону) и вышел в соседнюю комнату. Хозяйка, не спеша и очень осторожно, вышла вслед за ним… Потом вскоре вернулась, передала извинение — дескать, у него с головой сегодня что-то неладное… Ну так и без слов видно…
Он ничего не сделал для моего отца, или не смог сделать… Нет — не сделал!..» А вот теперь мы, я и его жена Анна Григорьевна, вместе трудились за одним огромным рабочим столом — я значился клейщиком, она моей подсобницей.
Клей сох очень быстро, и нужна была сноровка, которой у нее не было. Но она старалась… Как-никак осталось двое детей, их нужно было кормить. Уже не было той квартиры, того ужина, того мужа… И кто-то все это понимал и как-то помогал ей выбраться из этого омута.
Я при помощи большой одежной щетки широким, плавным и огибающим движением руки размазывал горячий клей по фанерному листу; два легких касания — и большой лист бумаги покрыт тонким, ровным, липким слоем; переворот листа и отбрасывание его в сторону одним движением, как на воздушную подушку — и чтобы место для него уже было освобождено. Она подхватывала, накладывала лист на картон (пока не остыло), разглаживала и перекладывала на просушку…
Но всего этого я не мог рассказать Матвею Семеновичу. —–Ты в какой школе учишься? — спросил он.
— В 125-й на Малой Бронной.
— А моя дочка в 105-й, и никакого слада с ней нет — бандитствует!..
Среди заключенных поговаривали, что дочка самого начальника ГУЛАГа каким-то образом спуталась с уголовным миром и он, всемогущий Берман, да и его дражайшая половина — активный работник аппарата ЦК ВКП/б — не могли ничего с ней поделать. И это не были слухи или сплетни — обо всем этом говорили как о большом горе.
— Фотоаппарат ФЭД знаешь? — неожиданно поменял тему Берман.
— Знаю.
— Вот эти аппараты делают на комбинате при коммуне имени Феликса Эдмундовича Дзержинского, — с гордостью сообщил он, словно сам был конструктором этого аппарата или обнаружил признаки того, что я со временем стану одним из подопечных этой коммуны.
Вслед за тем я узнал, что горемычный отец Матвей Берман родом из Новосибирска и после смерти знаменитого педагога и воспитателя малолетних преступников, самого Макаренко, был начальником этой замечательной то ли колонии, то ли интерната под названием «Коммуна».
— Но недолго… А до того…
Наверное, много всего другого было у него до того.
Был у него, у этого Бермана, свой особый большевистский форс и повадки вождя, но ему еще чего-то не хватало ко всем ромбам, ордену, власти… Что еще ему так уж нужно было?.. Мне трудно было понять… Может быть, сочувствия? Может быть, чтобы кто-нибудь восхитился им: его трудолюбием, подвигом, размахом Свершений?.. Или, может быть, сердечно одобрил его самого и всю его деятельность? Может, ему хотелось быть еще и легендарным и беззаветным? Ведь все поголовно хотели быть Героями! И от кого они этого ждали всего? От заплутавшегося в дебрях ГУЛАГа школьника? Да еще сына заключенного… Может, ему нужно было какое-то независимое, беспристрастное признание всей совокупности его заслуг, что ли? А может быть, он тосковал по обыкновенной мальчишеской привязанности? Или даже любви… Тогда там я ничего не мог понять. Недоумевал и пытался вспомнить, кого он мне так напоминает? Мне казалось, что все начальники в нашей стране, а может быть, в мире тяготились тем, что обыкновенные люди постоянно их о чем-нибудь просили. А если не просят, то еще больше тяготились и ждали, что вот-вот станут просить. А если и вовсе не просили, то было совсем уж невмоготу: «Это что ж такое происходит? Даже не просят?!». Тут уж сердились…
— Есть у тебя какая-нибудь нужда? — Не выдержал Берман, кожа на его лице натянулась, а под ней выступили желваки и образовались впадины. Я поспешил и сказал:
— Нет!
— Что, совсем никакой просьбы нет? — Он не поверил.
— А вы кто? — Пришлось спросить.
У меня перехватило горло — он добился своего: я же не хотел спрашивать его об этом. И не хотел ни о чем просить.
— Я заместитель наркома, — как мог проще ответил он.
Для меня это было выше всякой допустимости.
— А начальник Вяземлага вам подчиняется?
— Думаю, что да, — нет, он не важничал.