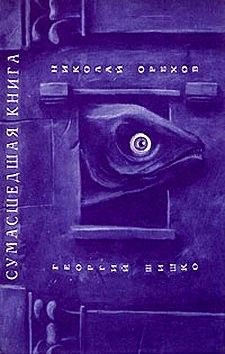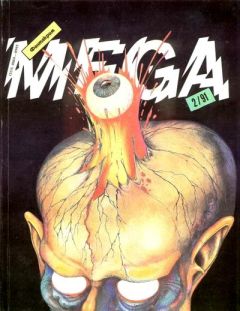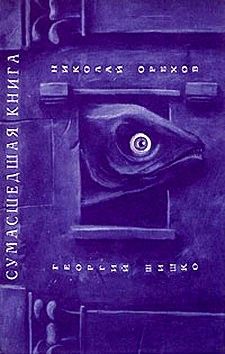Юрий Герт - Лабиринт
Олег сдержанно пожал плечами:
— «Прага» — лучший ресторан в Москве. При случае рекомендую заглянуть.
Он скучающе отвернулся и снова кивнул кому-то в зале. У него был четкий, решительно вырезанный профиль — прямой нос с тонкими нервными ноздрями, светлые волосы, небрежно отброшенные к затылку.
Мы сидели молча.
— И часто вы здесь бываете?— спросила Маша, пытаясь нащупать иронический той. Но ирония у нее получалась всегда наивной и беспомощной.
— Сегодня, Машенька, у нас особенный день,— усмехнулся Сашка, взглянув на меня.— Обмываем...
— Что?..— не поняла она. И вдруг вся просияла: — Рассказ? Приняли?
— Поздравляю, маэстро,— сказал Олег, привставая и церемонно протягивая мне руку.— Отныне вакантное место рядом со Львом Толстым занято!.. Ах, да, у нас не хватает шампанского!
— Не надо шампанского,— сказал я.— Место рядом со Львом Толстым пока остается вакантным. А нам пора.
— Значит, снова?..— Машенька вплеснула руками.
Я был рад, заметив, как искренне она огорчилась.
— Ты идешь, Коломийцев?..
— Да растолкуйте же вы, в чем дело! Я ничего не понимаю! Саша, Олег, скажите ему, чтобы он сел!
— Ладно,— сказал Сашка, вздохнув.— Чего уж там, Климушка...
Машенька смотрела на меня тревожно и просяще. Я рассказал о встрече с Жабриным.
Олег слушал так, словно ему заранее все было известно, и пил коньяк. Я никогда не видел, чтобы так пили: он схлебывал его, как теплый чай. Я старался не смотреть на него. Он выиграл какое-то там пари, и привел ее сюда. Ей пришлось прийти. Я свято верил в это. Жабрина не было. Была Машенька, ее покруглевшие, пронзенные печалью глаза.
Я предложил выпить за искусство.
— За Шекспира,— сказал Сашка. Он уже находился в той стадии, когда ничто не могло заставить его изменить Шекспиру.
Олег подмигнул мне:
— Один мой знакомый имел богомольную бабку. Она почти ослепла. Он вставил в икону на место божьей матери фото артистки Целиковской. А бабка продолжала молиться и жечь свечку.
— Но при чем здесь Шекспир?— сказал Сашка.
— А по-моему, он просто дрянь, этот твой знакомый! — возмутилась Машенька.
— Мальчики,— сказал Олег, снисходительно улыбаясь.— Когда-то наивность умиляла, в двадцатом веке она становится позорной. Я знал одного поэта. От его стихов у меня вибрировал позвоночник. Настоящее искусство всегда ощущаешь спиной... Так вот. Он работал ночным сторожем, в редакциях его считали шизофреником. Еще бы! В наше время поэты не служат ночными сторожами!..
— Но как же...— Машенька испуганно переводила взгляд с меня на Олега.— Ведь этот сторож... А если он гений?..
— Он страж искусства!— поддакнул Сашка.
— На этот счет у меня своя теория,— сказал Олег.— Чтобы пренебрегать чинами, надо их заслужить. Анатоль Франс, кажется... Если хочешь чего-нибудь добиться — слушай Жабрина. Вакансиями гениев ведают Жабрины.
— Но памятники ставят не Жабрины!— сказал Сашка.
— Хорош только тот памятник, который ставят при жизни. Я не верю в загробное царство.
— А во что ты веришь?— спросил я.
Он поднял стопку, разглядывая на свет, как в пей переливается темно-золотистый коньяк. Потом с откровенной усмешкой посмотрел на меня.
— В мгновение,— сказал он.— В мгновение, которое прекрасно.— И мимолетно коснулся взглядом лица Машеньки. Она опустила глаза и покраснела.
Ого, подумал я, ну, а если ей хотелось проиграть пари? А если хотелось?
Я искал слова поувесистей, чтобы швырнуть их в холеную рожу этого позера. Но внезапно подумал: а ты-то, ты сам — чем ты лучше?..
Я сказал — чтобы только что-то сказать:
— Дичь. Собачья чушь — все, что ты говоришь...
— А за вас говорит Великая Наивность,— сказал Олег.— На предмет святого искусства мы будем трепаться, когда выпьем на твой гонорар. А пока сходи к Жабрину и скажи, что ты передумал.
— Нет! — сказала Машенька.— Никогда! Клим не такой человек! А ты бы лучше помолчал, Олег. Вот еще выдумал философию!
— А все-таки,— сказал Сашка, наклоняясь к Олегу,— в чем же тогда цель жизни?
— Я же говорю — в мгновении...
— Это не ответ,— сказал Сашка.— Жизнь слагается из мгновений. Она должна иметь смысл в целом!
— Ты слишком дотошный философ,— сказал Олег.— Для меня все равно, чем окажется сумма.
Машенька сдавила виски:
— Ну что такое он говорит? И правда — дичь какая-то! Зачем тогда жить, если только мгновение, и все равно... Все равно... Нет,— сказала она,— нет, нет и нет! И еще раз нет! И еще миллион раз — нет! Мы живем, чтобы сделать что-то огромное, хорошее, что-то большое-большое... Пускай у меня трещит голова, но я знаю, что говорю!.. Почему вы молчите, мальчики? Почему вы не хотите ему ответить!..
Наверное, я был все-таки пьян. Я выпустил скомканную скатерть только тогда, когда бокал зацепился за тарелку и упал. Большое красное пятно расплылось по столу. Только тут у меня разжало горло, я вдохнул в себя воздух. И сразу почувствовал, как взмок на шее тугой ворот рубашки.
— Что ты, Клим?— вскочила Маша.
Я вытер пот рукавом, пытаясь улыбнуться.
— Нам пора,— сказал я.— Нам давно пора, Сашка.
И, по дожидаясь, поднялся и пошел к выходу.
* * *
Ребята ужо спали. Дима Рогачев, обхватив обеими руками подушку, чмокал и что-то бормотал во сие. Один Полковник, приделав к шнуру абажур из газеты, сидел у стола и читал хрестоматию по античной литературе.
Я лег. Кровать мерно раскачивалась подо мной.
Полковник захлопнул книгу, щелкнул в двери ключом, погасил свет. Потом он долго и тяжело ворочался па своем шуршащем сухой соломой матраце.
Никогда еще такого со мной не было. Что там я натворил, в самом конце?.. Мало ли какая чушь взбредет в голову девчонке с глупыми ямочками на щеках...
— Клим,— позвал Полковник.— Ты слышишь? Или ты спишь?
— Сплю,— сказал я.
— Слышишь, Клим,— я в темноте почувствовал, как он, уперевшись в подушку локтем, повернулся ко мне.— Лабиринт — это что? Путаница?
— Путаница,— сказал я.— Но давай лучше завтра. Это длинно.
— А ты покороче,— сказал Полковник.
— Нельзя. Это длинная история. Про Тезея, был такой герой у греков. Читал?
— М-м-м... Да вроде...
— Так вот, он хотел спасти людей, которых бросали на съедение быку Минотавру. В этот самый лабиринт. И так далее.
— А ты покороче,— сказал Полковник.
Койку покачивало. Мне казалось, зеленая морская хлябь волнуется подо мной, под ладьей, на которой Тезей плывет острову Криту. «Остров есть Крит, посреди виноцветного моря, зеленый...»
— Так вот,— сказал я.— Лабиринт... Был такой дво рец с множеством коридоров и комнат, и тот, кто в него попадал, все бродил и бродил по темным запутанным ходам, искал выхода и ни черта не находил. И Тезей тоже бродил, пока не нашел быка Минотавра и не убил его.
— А выход? Выход он нашел?
— А это уж неважно,— сказал я.— Главное, он сразил Минотавра. Впрочем, он выбрался из лабиринта... Но это еще одна длинная история. Про Ариадну.
— Это кто — Ариадна?
— Девчонка такая была,— сказал я.— Была такая девчонка с золотыми волосами. Она дала ему свой волосок, и он шел, а волосок разматывался по дороге за ним, и по этому волоску он потом добрался до выхода.
— Ну и греки,— вздохнул Полковник, помолчав.—
Навыдумывали, дьяволы, сказок на мою голову. Разве их упомнишь?.. А скоро зачеты...
— Да,— сказал я.— Всех не упомнишь. Я тоже что-то напутал, кажется... Про волосок Ариадны... Давай спать.
И мы заснули. Только странное у меня было чувство, перед тем как заснуть. Мне до того ясно представился этот тонкий золотистый волосок, что я осторожно пошевелил пальцами. Осторожно, чтобы не порвать, если он у меня в руке. Он ведь тонкий, он, может быть, и правда в руке, а я — не вижу. Всего-то ведь навсего — волосок...
* * *
Что он Гекубе, что ему Гекуба?..
Уж это, кажется, усвоил я хорошо. Крепко усвоил. Это мне помогли усвоить. Это мне объяснили один раз и на нею жизнь, насчет Гекубы и всего прочего, и не Гамлет, и не Сашка Коломийцев, а, как ни странно, сам капитан Шутов, первый мой настоящий учитель.
Он, правда, не облекал свою мысль в столь изощренную форму, но это и простительно: капитан все-таки был не Вильямом Шекспиром, а следователем органов госбезопасности. Я сидел у него в кабинете,—эдакий восторженный, отчаянный философ из десятого класса, предводитель кружка яростных борцов против мирового мещанства, и он, полистывая наш рукописный журнальчик «Прочь с дороги!» смотрел на меня сырыми, осенними глазами, кашлял, харкая в баночку с нарезной крышкой и утомленно, сочувственно внушал мне, что великие проблемы человечества — не наше дело, мы можем плохо кончить.
Семнадцать лет — отличный возраст для такого урока, с тех пор у меня хватило времени, чтобы над ним поразмыслить, над ним и кое над чем еще, и вдруг обнаружить спасительную формулу про Гекубу.