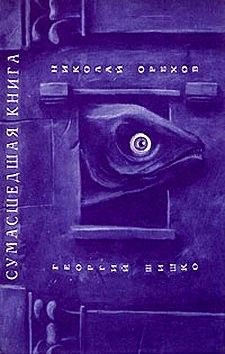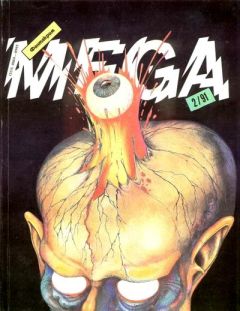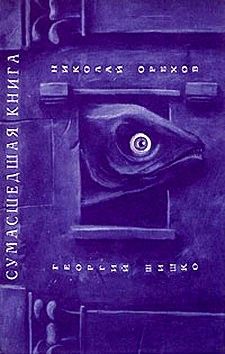Юрий Герт - Лабиринт
Самому капитану она, впрочем, показалась бы несколько циничной, даже не без налетца фрондерства, но ведь это лишь сверху, а в глубине та же мысль, с которой тогда, в его кабинете, мешали мне согласиться мои семнадцать лет и отсутствие жизненного опыта.
Но теперь эта мысль уже рисуется мне не грубо, не вульгарно, — тут уже известная эстетика, утонченность, тут в самих звуках мерещится и взгляд приглушенный, сквозь облачко дыма, и усмешечка в полгубы: «Что он Гекубе, что ему Гекуба?» — и через коротенькую паузу: «Как говаривал принц Датский»... И ведь, в сущности, ничего не сказано — и все сказано, и ничего нет — и все есть, зато как! Но я признаюсь: у Олега это получилось бы лучше. Олег — это высший класс, экстра, сноб из Охотного ряда. У него это получилось бы здорово, а я — что я?..
Утром я едва отрываю голову от подушки.
— Где это ты вчера набрался?— неодобрительно спрашивает Рогачев.
Ребята уже вернулись с физзарядки. У них морозные, румяные лица праведников. С завистью заматерелого грешника я смотрю, как блаженно вкушают они хлеб с маргарином, прихлебывая кипяток из кружек, и между делом листают конспекты. Им хорошо. У них не ломит затылок, не вяжет во рту, им не приходится по частям собирать свое тело, которое распалось на куски, требующие покоя и неподвижности. К тому же мне вспоминается вчерашнее. Меня гложет ощущение какой-то смутной вины — перед Машенькой, перед ребятами и всем человечеством в целом.
Я натягиваю штаны на деревянные ноги, беру полотенце и плетусь в умывальник. Холодная вода вселяет в меня надежду. Мне хочется искупить свои грехи примерным отношением к науке и долгу перед обществом. Я только неясно представляю, как это сделать. Но в и институт я мчусь бегом, чтобы не опоздать на первую лекцию.
На лестнице я сталкиваюсь с Машенькой. Сделав неприступное лицо, она обгоняет меня, едва тряхнув пушистой гривкой — это может сойти и за кивок и просто за нечаянное движение. Правда, на площадке ее шаги как бы в ожидании замедляются, но я тоже сбавляю скорость,
и она даже не взлетает, а взвивается вверх, рассыпая по лестничным маршам ожесточенную, непримиримую дробь каблучков.
Мы — последние. Со вторым звонком, гася шум, в аудиторию своей быстрой, размашистой походкой входит Сосновский. И вслед за ним врывается в дверь и пробегает по рядам какой-то бодрящий сквознячок. Его приветствуют весело, дружно, громко, словно каждый хочет, чтобы он расслышал его голос.
Тем временем я пробираюсь в дальний конец аудитории, — туда, где, как всегда, Оля Чижик бережет для меня свободный стул. Наверное, она что-то замечает во мне, но я здороваюсь как ни в чем не бывало и раскрываю тетрадь.
Олега не видно. Сегодня он не явился в институт. Он это часто себе позволяет, — и это, и многое другое... Но в общем-то, какое мне до него дело? Что он Гекубе, что ему...
Сосновский начинает лекцию. Теперь можно два часа ни о чем не думать. Ни о чем таком не думать,— ни о чем не думать на лекции Сосповского нельзя.
Он читает нам спецкурс по Пушкину,— при этом спецкурс, не обязательный по программе,— но к нам на его лекции приходят даже с других факультетов. Он приехал в наш институт недавно и сразу сделался кумиром, особенно для девчонок, с их потребностью в пылких восторгах. Меня же что-то в нем настораживает. Мне кажется, например, он слишком уж бравирует умом, эрудицией, блеском своей мысли. Когда он расхаживает вдоль доски, пружинистый, стремительный, лобастый, блестя квадратными очками в светлой оправе и рассекая пространство перед собой резкими, решительными жестами — что-то раздражает меня в нем. Особенно сегодня, сейчас. Я вижу со своего места лишь округлость Машенькиной щеки, но представляю, как зачарованно следит она за Сосновским и пишет, стараясь не упустить ни слова.
Я тоже пишу, я стараюсь сосредоточиться на том, что говорит Сосновский: жалкий, захолустный Кишинев, восстание в Греции, «Кавказский пленник»... Но: почему я не смог ответить, когда он заговорил о «прекрасном мгновении»?..— Россия в аракчеевском мундире... Освобожденная от Наполеона — и в плену у самой себя... Где «черкешенка», которая бы ее освободила?..— Конечно, он провожал ее до общежития, по той же самой дороге...— Романтическая черкешенка — и романтики-декабристы...
Почему я промолчал?.. Ей ведь так хотелось, чтобы я ответил... Но что я мог ответить?..
Черкешенка гибнет, освобождая Пленника, — декабристы разгромлены, но Россия остается в цепях...
— Почему ты не пишешь?..— Оля успевает следить и за мной, и за Сосновским. Она все время наблюдает за мной, но ее лицу я вижу, что внушаю ей сострадание.
Но я слушаю,— слушаю новый блестящий пассаж — теперь уже о Байроне. О Пушкине и Байроне. Скептицизм — первая ступень мышления... Гармоническое восприятие жизни... Дух гуманизма...
Скептицизм — только первая ступень... Кто это сказал: Пушкин или Сосновский? Сосновский или Пушкин?..
Он стоит у окна, слегка расставив ноги, наклонив голову вперед, словно с кем-то споря.
— Но если черкешенка — не более, чем прекрасный миф, то что же такое сам Пленник? Способен ли он сам добыть себе свободу?.. Достоин ли он ее? Почему он оказался Пленником? Как представляет себе он идеалы разума, добра и красоты?.. Тут кончается детство литературной и общественной мысли и начинается великий реализм девятнадцатого века — начинается сам Пушкин...
У него умные, грустные глаза, горящие едким весельем.
Идеалы разума, добра и красоты... Сколько ему — тридцать шесть, тридцать семь? После Москвы он очутился в нашем благословенном городе и говорит об идеалах... Категорично, решительно. Фразер! Его слова колют меня, как стекло, застрявшее под кожей. Но его слушают, ему завороженно смотрят в рот — и Оля Чижик, хмурясь от напряжения, и уныло-недоверчивый Дужкин, и Машенька...
На лекции по истории и педагогике она присылает мне записку с единственным словом: «Злишься?»
Я вглядываюсь в крупный, ломкий почерк третьеклассницы и несколько раз перечитываю лоскуток бумаги, наискось вырванный из тетрадки. Потом комкаю его и сую в карман.
Немного спустя приходит новая записка: «Вы поступили вчера бессовестно. Я зашла с ним случайно и не хотела оставаться. Почему вы бросили меня одну? Так друзья не поступают. А еще... («А еще» — зачеркнуто). М. И.»
Это контрнаступление. Нас не поняли... А может — и правда ничего не было, ничего, кроме пари?..
Но я дурак. Теперь я думаю не об Олеге, а о Сосновском. О том, как восторженно слушает она Сосновского. Я думаю об этом весь девятнадцатый век.
Его ведет у нас Александр Александрович Кирьяков, наш декан. Он похож на академика. Его можно было бы поставить вместо статуи посреди клумбы перед входом в институт, особенно в той позе, которую он принимает, когда отрывается от своего гроссбуха с конспектами и взирает на портрет Льва Толстого — если бы в такие минуты никого из нас не осталось в аудитории, он бы этого не заметил. Говорят, Александр Александрович уже много лет составляет энциклопедический словарь биографий русских писателей, но далек от завершения своего докторского труда: шагая в ногу с эпохой, он вынужден постоянно менять оценки и компилировать заново. Но в целом он безвредный старик и вполне меня устраивает — и он, и его лекции. Я использую их для общественной работы. Оля Чижик раскладывает передо мной карикатуры для нашей «Комсомолии», я сочиняю к ним подписи.
Но сегодня Александр Александрович Кирьяков чем-то выбит из колеи. Он слишком часто смотрит на портрет, потирая ладонью о ладонь как бы залубеневшие на морозе руки, и некий намек на смятение иногда оживляет его кованое лицо. Перед тем, как уложить свой гроссбух в огромный черный портфель, он снова поднимает глаза на строгий лик Льва Толстого и торжественным голосом произносит:
— Товарищ Бугров и товарищ Иноземцева, пройдите ко мне в деканат.
В длинном коридоре стоит полусумрак, едва рассеиваемый лампочками, ввинченными в высокий потолок; но когда мы поднимаемся но светлой лестнице, я вижу, какой гаммой цветов, от нежно-розового до темно-вишневого, переливается Машенька. Я знаю, она думает о вчерашнем. И мне смешно.
— Аморальное поведение члена комсомольского бюро...— бормочу я над ее ухом, вежливо распахивая дверь.— Морально-бытовое разложение...
Она гневно выстреливает в меня глазами. Но я знаю, какое жестокое раскаяние мучит ее, и чувствую себя полностью отмщенным.
В деканате уже стоит Дима Рогачев. Он удивленно оглядывает нас, поправляя очки:
— Вы — тоже?
К нам присоединяются Сашка Коломийцев и Лена Демидова, комсомольский секретарь факультета. Это высокая статная девушка, очень спокойная, с добрыми карими глазами и таким горячим румянцем на круглых щеках, что меня постоянно искушает желание чиркнуть по ним спичкой.
Конечно, разговор был не о вчерашнем нашем приключении. Уже по тому, как вслед за нами вошел Кирьяков, как прошествовал он к своему столу, как откашлялся несколько утомленно посмотрел на нас, мы поняли, что разговор будет о другом.