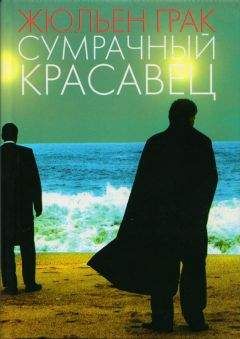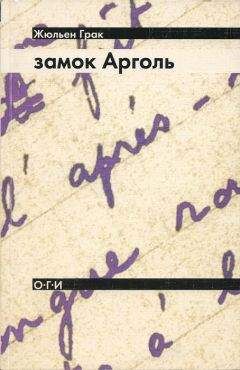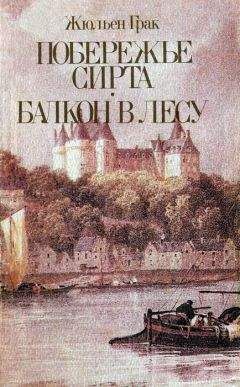Жюльен Грак - Побережье Сирта
При таком состоянии застоя мои функции наблюдателя обещали быть не слишком обременительными. Убедиться, что наблюдать в Адмиралтействе совершенно не за чем, было очень легко; чтобы не оказаться в смешной ситуации и разогнать немного скуку затворничества, надо было попытаться приручить своих подопечных, таких с виду безобидных. Роберто, Фабрицио и Джованни, три находившихся под началом Марино лейтенанта, были моими ровесниками, скучавшими в изгнании и думавшими прежде всего о своих выходных днях в Маремме, ближайшем городке, куда они отправлялись в адмиралтейской машине; потом, во время совместных ужинов, эти таинственные поездки становились предметом обсуждений и бесконечных шуток: ведь в Адмиралтействе женщин не было. Я быстро подружился со всеми троими, находя особое удовольствие в обществе Фабрицио, прибывшего в Орсенну совсем недавно и так же, как и я, озадаченного сонливой инертностью этого пасторального гарнизона. Роберто и Джованни проводили большую часть своего времени, спрятавшись по пояс в камышах и постреливая перелетных птиц, которые водились в здешних болотах в изобилии; сидя на солнце с книгой в руках у какой-нибудь амбразуры крепостной стены, мы с Фабрицио следили издалека за их скрытым от взора движением, угадывая его по четкой последовательности мирных разрывов в воздухе: легкий голубой дымок поднимался над неподвижными камышами; хриплые крики морских птиц, при каждом выстреле взмывавших вверх в золотистом воздухе завершавшейся осени, раздирали душу. Наступал вечер; стук копыт по шоссе вдоль лагун возвещал о том, что капитан возвращается с какой-нибудь отдаленной фермы; легкий гомон, стоящий в казармах во время вечерней трапезы, оказывался последним мимолетным намеком на присутствие жизни в Адмиралтействе. Вечер собирал нас всех пятерых перед пышной грудой золотистой дичи; мы любили эти вечерние трапезы, это шумное и сердечное застолье; большое пространство сгустившегося вокруг нас пустого мрака как бы прижимало нас еще теснее друг к другу внутри этого оазиса теплоты и задушевности. В атмосфере бурлящей молодости таяли почти монашеская сдержанность и неразговорчивость Марино; ему нравилась наша веселость, и в те дни, когда туман обволакивал нашу маленькую гавань, когда нами овладевали грусть и растерянность, он первым требовал подать к столу кувшин терпкого сиртского вина, которое здесь хранят, как в античные времена, заливая слоем масла. Ужин завершался, и Джованни, наш охотник, кашляя в уплотнившемся от сигарного дыма воздухе, предлагал прогуляться по молу. Соленая свежесть неподвижно висела над застоявшейся водой; в конце мола слабо мигал фонарь; за нами на лагуну ложилась навязчивая, как призрак, тень крепости. Мы садились, свесив ноги, вдоль набережной, под которой еле-еле пульсировал прилив; Марино раскуривал свою трубку, смотрел, прищурившись, на облака и с видом знатока сообщал погоду на завтра. За этим, всегда безошибочным, прогнозом следовала многозначительная пауза, напоминающая секунды молчания во время спуска флага, — так завершалась вечерняя церемония. Голоса становились более монотонными; наш крохотный колос терял одно за другим свои зерна; одна за другой хлопали двери среди безмолвных стен. Я открывал окно навстречу соленой ночи: спали все пятьдесят лье побережья; фонарь в конце мола, отражаясь в спящей воде, светил бесполезно, как свеча, забытая в глубине склепа.
В такой отрезанности от всего остального мира была своя прелесть. Донесения, которые я время от времени посылал в Орсенну, были весьма коротки, но зато я писал очень длинные письма друзьям. В эти ясные, спокойные дни иногда мне вдруг начинало казаться, что слабая пульсация этой вот маленькой частицы дремлющей жизни, трепещущей на краю пустыни, отзывается у меня в самом сердце. Облокотившись о крепостную стену с ее пучками сухой травы, свисающими над пропастью, я единым взглядом охватывал все это хрупкое пространство: муравьиное движение людей, изредка снующих туда-сюда, дребезжание повозки, сухой отрывистый стук молотка в сарае в первозданном виде доходили до меня сквозь вибрирующий, подобно колоколу, воздух — в этом привычном, хорошо знакомом мне окружении я чувствовал себя уютно, и все же от всей этой бесхитростной деревенской суеты веяло какой-то тревогой, и было в ней что-то похожее на зов. Казалось, над дремотностью этого смиренного копошения, за которым я, словно с облака, следил со своего наблюдательного пункта, всей своей массой тяготело какое-то сновидение; когда я задерживался на нем взглядом подольше, то чувствовал, как во мне возникает ощущение странности происходящего, ощущение, подобное тому, которое заставляет нас затаив дыхание следить за суматохой муравейника, живущего как будто чисто бессознательной жизнью, под занесенным над ним каблуком. Тогда я мысленно возвращался к Марино и к моему первому осмотру крепости; у меня перед глазами вставал его жест-заклинание, его успокаивающее постукивание трубкой по казенной части пушки, и у меня внезапно возникало острое чувство его веского и покровительственного присутствия внутри этой крошечной колонии. Он же сам и был ее спокойной пульсацией; я видел, как его неуклюжая честная рука осторожно отгоняет тени, нависшие над бесхитростной жизнью; я чувствовал, как сильно я от него отличаюсь и как сильно я его люблю.
Я жил без правил. Времяпровождение в Адмиралтействе не было для нас монотонным; связанное с нашей замедленной и весьма неоднозначной деятельностью, подчиненное превратностям погоды и капризам моря, оно несло на себе печать крестьянского разнообразия и сезонности, и мне легче, чем кому бы то ни было, удавалось избегать малейшей его регламентации. В первые дни я даже страдал от чрезмерной свободы и от незаполненности существования; поначалу я с жаром включился в те неистовые развлечения, которые помогали нам коротать мучительные часы одиночества: мы били гарпунами заплывавшую в лагуны крупную рыбу, гонялись за зайцами, пуская лошадей в галоп по оголенным степным пространствам. Иногда нас приглашали на соседнюю ферму для участия в регулярно устраиваемых облавах на кроликов, опустошающих и без того скудные овечьи пастбища; это служило поводом для больших праздников, во время которых мы до поздней ночи беседовали и пили вино при свете факелов. От нашей дневной добычи, сваленной на гумне в высокую груду, в вечернем воздухе распространялся сильный запах диких животных. Мы возвращались верхом на лошадях, усталые и сонные; в то время как над степью занималась заря нового дня, свет бледнеющего на горизонте пожара возвещал о завершении еще одной облавы. Я был не очень вынослив; после подобных развлечений у меня болело все тело и в сердце замирала пустота; пытаясь убежать из Орсенны в эту грубую, здоровую жизнь, я преуспел лишь отчасти. Однако мало-помалу она стала окрашиваться для меня в один необычный цвет; праздность первых дней помимо моей воли начала организовываться вокруг некоей субстанции, которую нельзя было больше считать таинственным центром притяжения. Подобно тому как ребенка притягивает к себе какой-нибудь обнаруженный в развалинах тайник, меня привязывала к себе крепость с ее секретами. Когда в середине дня жара становилась невыносимой и наступал час полуденного отдыха, Адмиралтейство пустело; я же именно в этот час, никем не замеченный, пробирался вдоль рва через заросли чертополоха к потайной двери. Длинный сводчатый коридор и сырые разрушающиеся лестницы вели меня во внутреннее помещение крепости, на мои плечи ложилось покрывало могильной сырости — я входил в палату карт.
С того самого первого раза, когда, обследуя лабиринт проходов и казематов, я из чистого любопытства толкнул ее дверь, то ощутил, что мною постепенно овладевает чувство, определить которое можно, только сказав, что оно принадлежит к разряду тех чувств (говорят, что в самом центре России есть такие степи, причем самые что ни на есть обыкновенные, где стрелка компаса, когда по ним проезжаешь, начинает вдруг неожиданно отклоняться), которые заставляют отклоняться стрелку того невидимого компаса, что ведет нас по стезе безмятежной жизни, и вдруг ни с того ни с сего указывают вам притягательное место, куда следует идти не сопротивляясь. Что в первую очередь поражало в этой длинной и низкой сводчатой палате, так это просто необыкновенная чистота и неукоснительный, маниакальный порядок, царившие посреди пыльной обветшалости разрушающейся крепости, высокомерный вызов увяданию и вырождению, великая и одновременно разрушительная способность быть одним в поле воином, удивительное и сразу бросающееся в глаза стремление остаться во что бы то ни стало готовой послужить. Внимая скрипу дверных петель, впускающих в это бдительное одиночество, я чувствовал себя смущенно, словно выходил из экипажа на торжественный обед, на который еще не собрались гости, и испытывал легкий шок, какой испытываешь, когда, толкнув дверь вроде бы пустой комнаты, вдруг обнаруживаешь там кого-то затаившегося и подслушивающего, видишь окаменелое, растерянное, отсутствующее и зловещее, как у слепца, лицо.