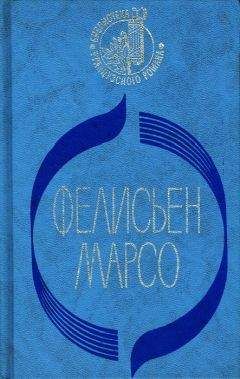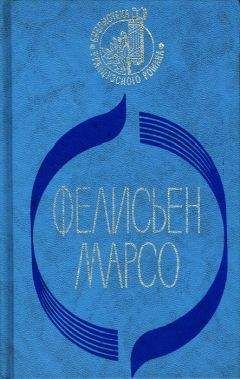Фелисьен Марсо - На волка слава…
Не говоря уже о том, что в моей статистике есть и другие интересные моменты. Они заслуживают более внимательного рассмотрения. Например, сцена на обочине дороги. 31 АВГУСТА, когда все на машинах возвращаются из отпуска. Рядом деревья, птицы, бумажный змей, которого запускают отец с сынишкой. И тут же дорога, несущиеся мимо грузовики, запах асфальта, глушители, выхлопные газы, то есть мир бензина — тут есть о чем задуматься. А одна из сцен происходит в гостиничном номере в южном предместье Парижа. Комната с постелью. Казалось бы, все очень естественно. Но герой сцены, тот, который совокупляется, что он еще делает в жизни, кроме совокупления, какая у него профессия? Он механик. В спецовке. И, конечно же, от него пахнет бензином. И при этом я даже не говорю о взаимной значимости всех этих сцен. А тут тоже можно бы было кое-что прокомментировать. Есть, скажем, три сцены, которые происходят в комнате, согласен, но все вместе эти три сцены занимают двадцать шесть страниц, тогда как одна сцена изнасилования в прицепе — восемнадцать страниц. Нельзя же утверждать, что все это случайно. Нет, в этом что-то есть. Что-то, очевидно, бессознательное и поэтому еще более весомое. Имеющее более глубокий смысл. Нечто такое, что, не будь меня, это так бы и осталось непонятым. Трусики, анархисты? Какая связь? В чем обнаруживается их влияние? Есть только бензин и больше ничего. Вкус бензина. Нездоровое пристрастие к бензину. О котором Шампьон ничего не говорит. О котором он остерегается говорить.
Ну а почему он ничего не говорит об этом? «Я говорю обо всем». Но только не о бензине. Почему? Стыдливость? Стеснительность? Человек, который рассказывает даже историю с трусиками, не должен в принципе стесняться чего-то еще. Тогда почему трусики, а не бензин? Потому что это система. Все та же система. Страх перед системой. Потому, что трусики, это входит в систему. Это вписывается в длинную традицию: туфли у Рестифа де ла Бретона, шлепки по мягкому месту у Руссо, украденный им у кузины платочек. Тогда как канистры с бензином… Может быть, потому, что бензин существует не так уж давно. И Шампьон, вероятно, почувствовал себя немного одиноким. Совсем один со своей канистрой в мире, в котором об этом еще никто не говорил. Совсем один в мире, в котором, возможно, еще никто и никогда не находил удовольствия во вдыхании паров бензина. И он испугался.
И можно понять, почему. Вдумайтесь! Взять и сказать себе, что, может быть, ты один-единственный страдаешь этим пороком. Что, может быть, ты чудовище. О! Я думаю, это ужасно. Даже точно знаю это. Ведь я тоже в течение долгого времени считал себя одиноким, считал себя исключением из нормы. Из-за этой «свежести и бодрости». Из-за «мужчина, женщина, постель». Из-за многих других вещей. И это ужасно! Это порождает страх. Шампьон, видно, испытывал его. И с отчаяния он придумал себе нечто новое: трусики тети. Чтобы попытаться быть как другие. Чтобы сказать им: вот посмотрите, я такой же, как вы, похожий на вас, трусики тети и ничего больше. Ни слова о бензине. Потому что у него возникло желание признаться, а в то же время он не смел сказать правду. Это вас удивляет? Разве вы никогда не встречали мужей, которые, переспав с какой-нибудь женщиной, испытывают потребность сказать, вернувшись домой, своей жене:
— Ты знаешь, я тут встретил Жюли. И мы зашли в бистро. Я угостил ее бокалом вина.
Не сообщая, разумеется, что они занимались с ней любовью, но и не в силах скрыть, что они ее видели. Я чувствую, что с Шампьоном происходило то же самое. Он хотел объясниться. Хотел признаться. Потому что это ужасно, не иметь возможности признаться. Но он не решился говорить о бензине. Из-за новизны явления. Из-за риска оказаться в одиночестве со своим пристрастием к бензину. Тогда он заменил бензин другой вещью, показавшейся ему более или менее эквивалентной: трусиками. Он хотел дать некоторое представление, вот в чем дело. Дать некоторое представление о своей драме. А затем, в тот момент, когда нужно было уточнить, пошел на попятную. И произвел подмену. Вот она, ложь. Система. Потому что другие, наверное, тоже производили подмены. И туфли Рестифа де ла Бретона, возможно, тоже были не туфлями, а чем-то другим. А кому же тогда верить? Где искать серьезные свидетельства? И ведь такое длится на протяжении многих веков. Вот в чем драма. Драма, я не преувеличиваю. Потому что он, Шампьон, пытался с помощью этих трусиков присоединиться к другим. Но в глубине своего сознания он, скорее всего, понимает, что ему это не удалось. Понимает и то, что сам, по собственной воле отказался от своего единственного шанса присоединиться к ним. Его единственный шанс состоял в том, чтобы кто-то из его читателей вдруг написал бы ему: я тоже нюхаю бензин. А этот читатель, в свою очередь… Не правда ли? Потому что есть, наверняка, и другие, которые тоже лижут бензин и тоже думают, что они одни страдают этой манией, считают себя исключениями из правила, чудовищами, и испытывают страх. И из-за Шампьона, из-за его молчания, продолжают считать себя исключениями из правила.
Вот я, например, когда я был маленьким, то для меня было большим удовольствием взять горбушку хлеба и есть ее в своей постели вечером, перед сном. Ощущение было очень приятное. Приблизительно такое, какое я теперь испытываю, думая о некоторых женщинах, о некоторых позах. Так вот! Трудно себе даже представить, насколько эта история с горбушкой способствовала развитию у меня чувства одиночества. Насколько она способствовала моей изоляции, как она помогала воздвигать вокруг меня что-то похожее на тюремные стены, разрушить которые мне стоило больших трудов. А ведь это была совсем маленькая, крохотная мания. Совершенно невинная. Однажды, когда я рассказывал доктору о своей бессоннице, он сказал мне:
— А вы не пробовали что-нибудь поесть перед тем, как укладываться спать, какую-нибудь корочку хлеба, печенье?
Привычка, стало быть, совершенно естественная. Почти гигиеническая. Вот только жаль, что тогда, когда я был маленьким, я не знал об этом. Никто и никогда не говорил мне, что любит вечером, ложась спать, погрызть горбушку. И из-за этого у меня возникло ощущение одиночества. Я чувствовал себя не таким, как все. Исключенным из общества. Прокаженным. Проклятым. И это было ужасно. Мне хотелось в школе подойти к другим и спросить у них:
— Скажи, а ты как вечером? Ты не жуешь горбушку? Никогда? В самом деле, никогда?
Но я не решался. А таких, как я, было, скорее всего, много: десятки, сотни. И все мы не решались спросить. Каждый оставался наедине со своим стыдом, был узником своего стыда. Каждый. И каждый страдал. Я — из-за своей горбушки, Шампьон — из-за своего бензина. Бедный Шампьон! Может быть, он решил, что это закроет перед ним двери Французской Академии. И он стал рассказывать про трусики, потому что мастурбация — это уже вписалось в систему. Стало частью традиции. Это уже известно. Уже нашло свою нишу. Но почему? Почему именно это, а не бензин? Да, писатели могли оказать большую помощь в этой области. Вместо того, чтобы писать о пустяках. Вместо того, чтобы укреплять систему, как Шампьон, с помощью искажений, с помощью подмен, добавляя свою маленькую ложь к уже существующей лжи. Никакого сомнения. Если бы, предположим, Постоянным секретарем Французской Академии мог бы стать человек, написавший, например, что у него есть привычка совать палец в нос, а потом облизывать его (вместо того, чтобы глупо заявлять, что он мастурбирует), это было бы полезно. Все, кто страдает от этой мании (мой коллега Виньоль среди прочих), успокоились бы. Они сказали бы себе: надо же, а я-то считал себя исключением из правила, но это вовсе не так; я думал, что я не вполне нормальный — ничуть не бывало, какой пустяк, и это не мешает стать даже постоянным секретарем Французской Академии. И эти люди почувствовали бы себя менее одинокими. Мир стал бы чуть менее грустным. Мы бы уже не страдали в одиночку, каждый в стенах своей тюрьмы.
ГЛАВА III
В общем, невеселое детство, прямо скажем, унылое. Неприятное и скучное. Никаких просветов. Сплошной серый цвет. Пустыня. Пустота. Или что-то в этом роде. Вот я беру слово «детство» и гляжу на него, рассматриваю со всех сторон, нюхаю, пробую на вкус: ничего особенного. Если не считать вкуса насморка, запаха насморка. Каждую зиму у меня был насморк. Он начинался у меня в первый же день школьных занятий. Как часы. С первыми холодами. Я возвращался из школы, шмыгая носом.
— Ну вот. Эмиль опять подхватил свой насморк.
Потому что это был именно мой насморк. Мой особый насморк. Всегда один и тот же. Верный мне. Он появлялся у меня в сентябре-октябре. В какой-то год я продержался до ноября, до праздника Всех святых. Моя мать забеспокоилась.
— Интересно, а где же твой насморк?
Проходил он у меня только в марте. Регулярно. А с октября по март я жил отшельником в своем насморке. Потому что насморк — это тоже своего рода тюрьма. Ты как бы окружен им со всех сторон. Нос закупорен, уши раздуты, горло заложено, все выходы перекрыты, и ты воспринимаешь все как бы сквозь вату, а голова болтается на плечах так, как если бы это была и не голова вовсе, а что-то еще, чего там не должно быть: мяч, колокол, земной шар. Нужно сказать, что меня можно было бы вылечить. Насморк лечат. Кстати, мать немного занималась этим. Она разрисовывала мне грудь йодом (сеточкой, похожей на решетку, чтобы все еще больше напоминало тюрьму). Но больше ничего. Ничего серьёзного. Из-за системы. Опять система. «Насморк — это пустяки. Не лежать же в постели из-за насморка».