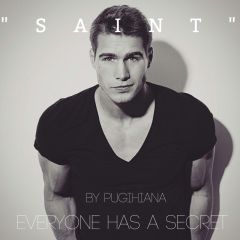Юкио Мисима - Солнце и сталь
И тут обнаружилось, что мышцы, столь материальные — ведь их можно и увидеть, и пощупать, — начинают обретать черты абстракции. Казалось бы, в отличие от слов, мускулы никоим образом не связаны с коммуникативной функцией, а стало быть, заведомо лишены качества абстрактности, как правило, возникающей только в сфере общения между людьми. И все же, все же, все же...
Как-то летним днем я подошел к окну, чтобы остудить разгоряченное тренировкой тело. Пот на сквозняке моментально высох, и по всей коже заструилась легкая ментоловая прохлада. Внезапно я почувствовал, что не ощущаю больше своих мышц. Прежде так бывало только со Словом: иной раз, разрушив своими абстракциями до основания конкретность вселенной, оно на время как бы и само перестает существовать. Теперь нечто подобное произошло с телом — оно тоже перемололо в порошок целый мир. Перемололо и тут же само исчезло.
Что это был за мир, раздавленный моими мускулами?
Мир общепринятых представлений о бытии, в который мы верим больше по привычке. Он рухнул, и вместо него меня заполнило ощущение могучей полупрозрачной силы. Вот что я называю абстракцией. Опыт общения со сталью подсказывал мне, что мышцы и металл находятся во взаимной зависимости, напоминающей связь каждого из нас с внешним миром. Сила не является силой, если она не приложена к некоему объекту. На этом же принципе построены и наши отношения с окружающей действительностью; я стал зависеть от стали точно так же, как остальные зависят от внешнего мира, который формирует человека. Меня же выковывала сталь, постепенно передавая моим мышцам присущие ей свойства. На самом деле ни сталь, ни окружающий нас мир не обладают ощущением бытия, однако инерция мысли заставляет нас уверять себя, что, подобно нам, людям, и вселенная, и металл тоже сознают свое существование. Иначе, как нам кажется, мы не сможем убедиться в истинности нашей собственной экзистенции; и Атлас, держащий на плечах небесный свод, с легкостью уверит себя, что он и его ноша суть одно целое. Наше самоощущение нуждается в существовании объективного мира, вне выдуманной нами же релятивистской вселенной жить мы не можем.
И в самом деле, поднимая стальной груз, я чувствовал, что верю в свою силу. Я сражался за эту веру, пыхтя и обливаясь потом. В такие мгновения сила была нашим общим достоянием — моим и стали. Экзистенция становилась самодостаточной.
Но стоило мышцам расстаться со сталью, и их охватывало невыразимое одиночество; я чувствовал, что бугры и выпуклости на моем теле — это зубчатая шестерня, не имеющая никакого смысла без сцепляющегося с ней колеса. Меня обдуло ветерком, пот высох — и ощущение собственного тела исчезло... И все же именно в этот миг мускулы выполнили самую главную свою задачу: своими мощными зубцами они раскрошили релятивистский мир и создали мир прозрачной силы, мир чистых, беспримесных ощущений, не нуждающийся ни в каких посторонних объектах. Там даже мускулы стали ни к чему, и я оказался в средоточии абсолютной Силы, подобной лучезарному сиянию.
В чистом ощущении силы, которую мне не дали бы ни книги, ни аналитические изыскания, я открыл для себя подлинный антипод Слова.
Так, кирпичик за кирпичиком, возводился фундамент моей новой идеологии.
Создание новой идеологии начинается с попыток сформулировать главную, пока еще не вполне определившуюся идею. Перед тем как приступить к ловле, рыбак долго выбирает удочку по руке; так же поступает и фехтовальщик, тщательно подбирая бамбуковый меч нужного веса и длины. Когда же человек собирается изменить свое мировоззрение, он присматривается к смутно рисующейся ему концепции, пытаясь придать ей то одну форму, то другую, и в конце концов находит приемлемый образ, после чего идея делается его подлинной собственностью, проникает ему в душу.
С тех пор как я впервые испытал ощущение чистой силы, во мне возникло предчувствие, что это переживание станет ядром моей новой идеологии. Меня охватила тогда невыразимая радость, я предвкушал наслаждение особого рода: как я вволю наиграюсь с зарождающейся идеей, прежде чем она станет моей плотью и кровью. О, я не буду торопиться, постараюсь, чтобы концепция как можно медленнее обретала законченный вид, буду бесконечно экспериментировать с формой и всякий раз возвращаться к поразившему меня ощущению чистой силы — проверять, на правильном ли я пути. Я воображал себя собакой, зачарованной дивным запахом, который исходит от косточки. Как долго принюхивается к своему лакомству пес, как старается продлить удовольствие!
Сначала я попробовал примерить бокс, затем кэндо. Об этих своих экспериментах я еще расскажу, пока же замечу лишь, что мое стремление обнаружить ощущение чистой силы в ударе кулака или выпаде меча было совершенно естественным. В боксерской перчатке, в острие клинка есть нечто, самым неопровержимым образом доказывающее существование невидимого света, излучаемого мышцами. Я пытался дотянуться до абсолютного ощущения, находящегося где-то сразу за гранью возможностей человеческих органов чувств.
Там, за этой границей, где, казалось бы, царит пустота, явно что-то таилось. При помощи чистой силы я мог приблизиться к волновавшей меня загадке почти вплотную, на расстояние шага. Опирайся я на интеллект и художественное восприятие, мне не удалось бы подобраться и на десять, на двадцать шагов к цели. Наверное, искусство нашло бы средство для описания этого «нечто». Однако «средство» в моем случае означало «Слово», а я твердо знал, что абстрактная сущность слова стеной встанет на моем пути — ведь мои искания начались именно с неудовлетворенности художественным выражением как таковым.
Предавая Слово анафеме, не могу не остановиться на изначальной сомнительности акта, именуемого художественным выражением. С помощью слов мы вновь и вновь пытаемся выразить то, для чего определения просто не существует. И иногда, казалось бы, нам удается что-либо выразить! Такое случается, когда искусное сочетание слов распаляет воображение читателя до крайней степени; сила воображения делает сочинителя и читателя соучастниками преступления. И вот в результате преступного сговора внутри художественного произведения возникает нечто, чего там нет и быть не может. Люди называют этот фокус «творчеством» и очень им гордятся.
Когда-то Слово, орудие абстракции, появилось в конкретном мире посланцем Логоса, призванным положить конец всеобщему хаосу, а художественное выражение первоначально представляло собой попытку направить ток в обратную сторону, то есть воссоздать предметы и явления при помощи одной только речи, используя абстрагирующую функцию слов. Именно это я имел в виду, когда говорил, что литературные произведения — не более чем разукрашенная дегенерация Слова. Художественное выражение воссоздает одни образы, закрывая при этом глаза на существование других.
Как часто истина ленивцев, принималась на веру во имя фетиша, именуемого «воображением»! Как облагородило это слово нездоровую склонность устремляться в глубины истины одним только духом, не утруждая усилиями тело! Присущая воображению сентиментальность заставляет чувствовать боль другого, как свою, но зато собственных болевых ощущений человек стремится не замечать. А как превозносит воображение душевные страдания, подлинную меру которых на самом деле определить очень непросто! Когда заносчивое воображение вступает в преступную связь с самовыражением художника, на свет появляется фальшивка, называемая «произведением искусства», а взаимосуществование множества подобных подделок приводит к тому, что реальность трансформируется и искажается. В результате человек оказывается в каком-то мире теней и утрачивает способность воспринимать даже терзания собственной плоти.
По ту сторону удара кулака и выпада меча таилось нечто, находившееся на противоположном от вербального выражения полюсе. Я чувствовал, что это — квинтэссенция объективного мира, самый дух бытия. И уж во всяком случае это никак нельзя было отнести к разряду теней. По ту сторону боксерской перчатки и клинка набирала силу новая реальность, решительно отвергавшая любые абстракции, вообще не признававшая, что явление можно воспроизвести посредством рассуждений.
Я был уверен, что передо мной — средоточие Действия и Силы, однако в жизни называлось это куда проще: «противник».
Мы с ним были обитателями одной и той же вселенной, я видел его, он — меня, и мы оба обходились без пресловутого воображения, мы принадлежали миру Действия и Силы, где все можно увидеть воочию. Мой противник уж никак не являлся отвлеченным понятием или идеей.
Наши отношения с идеей строятся на совсем иной основе: к идее мы карабкаемся по лестнице из слов, можем подобраться к ней вплотную, пялиться на нее, даже ослепнуть от ее сияния, да только она на нас в ответ глядеть не станет. В мире же, где твой взгляд моментально сталкивается с ответным взглядом, для разглагольствований места и времени нет. Болтающий остается за пределами арены. Это означает, что на него никто не смотрит, благодаря чему у него и появляется возможность предаваться самовыражению — не спеша наблюдать и играть словами. Зато такому зрителю никогда не удастся постичь суть реальности, отвечающей на взгляд взглядом.