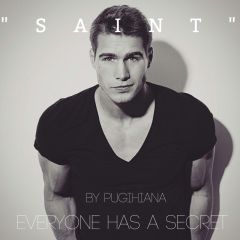Юкио Мисима - Солнце и сталь
В древние времена способность выносить боль считалась доказательством мужественности и непременно проверялась в ходе ритуала инициации. Одновременно с этим обряд превращения мальчика в мужчину символизировал смерть и воскрешение к новой жизни. Но современное человечество успело забыть, какой глубокий конфликт между сознанием и плотью заключен в понятии мужества, прежде всего физического мужества. Принято считать, что сознание пассивно, а тело олицетворяет движение и смелость: однако в драме, имя которой «физическое мужество», эти роли получили противоположные знаки. Тело хочет ограничиться функцией самообороны, а ясное, незамутненное сознание подталкивает его ввысь, к полету, что ведет к саморазрушению и гибели. Предельная ясность сознания — самый важный фактор в отрешении от инстинкта самосохранения.
Назначение физического мужества — сносить боль. Поэтому в нем — источник соблазна, манящего нас вкусить смерти, понять ее; в нем — и первичное условие воспринятия нами идеи будущего конца. Сколько бы ни рассуждал кабинетный философ о смерти, ему не подступиться к ее сути до тех пор, пока он не наберет достаточно физического мужества, чтобы признать факт ее существования. Я все время подчеркиваю: физическое мужество, потому что слова «совесть интеллигента» или «интеллектуальное мужество» для меня — пустой звук.
Однако приходится мириться с тем, что мне выпало родиться в эпоху, когда бамбуковый меч перестал быть символом меча стального, и даже в поединке настоящий клинок может лишь рассекать воздух. В фехтовании сконцентрирована вся красота мужественности, но, лишенная какого-либо общественного смысла, эта красота уже мало чем отличается от обычных видов искусства, питающихся за счет художественного воображения, которое стало для меня ненавистным. Меня интересовало только такое кэндо, где нет и не может быть места фантазии.
Полагаю, что наиболее циничные из читателей отнесутся к этому моему признанию насмешливо — кому, как не им, знать, что самую большую ненависть воображение вызывает у мечтателя, предающегося фантазиям постоянно.
Однако мои мечты превращались в мускулатуру. Она существовала в реальности, то есть могла питать воображение других, но моим собственным фантазиям уже была неподвластна. Мое знакомство с миром людей, открытых чужим взглядам, шло все стремительней и стремительней.
Особенность мышц как раз в том и состоит, что, сами лишенные воображения, они стимулируют воображение смотрящего на них. Я пошел еще дальше: занявшись кэндо, я искал чистого действия, в котором вообще не нашлось бы места фантазированию — ни моему, ни чужому. Иногда мне казалось, что цель достигнута, временами же я чувствовал, что это не так. Но одно не вызывало сомнений: во время схватки моими руками, ногами, голосом управляла некая поселившаяся во мне сила.
Как получается, что тяжелая, темная, сбалансированная, статическая масса, именуемая мускулатурой, в момент действия обретает безумную неистовость? Я всегда любил ощущать свежесть и чистоту сознания, струящегося неостановимым ручейком даже во время высочайшего душевного напряжения. При этом я понимал, что не только у меня медь безумия инкрустирована серебром сознания, — это вообще свойственно человеческому интеллекту. Именно такая серебряная отделка объясняет безумие неистовства. Постепенно я пришел к мысли, что в основе ясности моего сознания — мощь неподвижных, геометрически правильных, безмолвных мышц. Иной раз, когда меч противника ударял не по доспехам, а по открытому телу, меня пронзала острая боль, и усилие совладать с ней возводило мое сознание на новую ступень. Когда же я начинал задыхаться, справиться с одышкой мне помогало накатывающееся неистовство... В такие мгновения я видел перед собой иное солнце, совсем не похожее на ясное светило, столь долго дарившее меня своей благодатью. Это новое солнце ярилось сполохами темных страстей; оно не обжигало кожу, но зато излучало странное сияние. То было солнце смерти.
Для интеллекта достаточно опасно даже соприкосновение с обычным светилом; второе же солнце таит в себе куда большую угрозу. Именно это меня больше всего и радовало...
Вы спросите, как тем временем развивались мои отношения со Словом.
Я уподобил свой литературный стиль мускулам. Он приобрел гибкость и независимость, жировые складки ненужной орнаментальности исчезли, а вместо них появились бугры мышц, без которых современная цивилизация вполне может обходиться, хотя в прежние времена они считались признаком мужества и красоты. Сухой, чисто функциональный стиль мне так же несимпатичен, как чрезмерная чувствительность.
Я оказался один на необитаемом острове. Не только мое тело, но и мой литературный стиль оказались в полном одиночестве. Моя манера письма отвергала любое влияние. Больше всего меня стало привлекать благородство; идеалом красоты мне теперь казалась строгая, обшитая деревом прихожая в старинной самурайской усадьбе, — такая, какой она выглядит в неярком свете зимнего дня. Впрочем, я не хочу сказать, что моя проза обладает подобным качеством...
Естественно, мой стиль чем дальше, тем больше противоречил веяниям эпохи. Он изобиловал антитезами, отличался старомодной тяжеловатостью, был не лишен определенного аристократизма, но при любых обстоятельствах сохранял церемониальную размеренность поступи, даже когда маршировал через чужие спальни. Мой стиль, подобно старому служаке, постоянно держал грудь колесом. К тем, кто сутулится, горбатится, сгибает колени или, упаси Боже, вихляет бедрами, он относился с величайшим презрением.
Я знал, что в мире есть истины, которые можно разглядеть только согнувшись в три погибели, но исследовать их я предоставлял другим.
Втайне я вынашивал план достичь единства жизни и искусства, литературного стиля и этоса[1] движения. Если манеру письма сравнить с мускулами или этикетом поведения, то в ее функцию входит сдерживать произвол воображения. При этом какие-то истины неизбежно оказываются вне поля зрения, но тут уж ничего не поделаешь. И меньше всего меня заботило, что при таком подходе мой стиль лишается пугливого напряжения, свойственного смятению и хаосу. Я сам определил, какие именно истины меня занимают, а всеобъемлющей правды искать не стал. Меня не интересовали также правдочки слабые и уродливые; я разработал своего рода дипломатический протокол духа, позволявший справляться с болезнетворным влиянием чрезмерной игры воображения. Игнорировать или недооценивать это влияние было опасно. В любой момент трусливые отряды фантазии могли нанести предательский удар по крепости моего литературного стиля, которую я возвел с таким тщанием. Поэтому я бдительно охранял свой замок днем и ночью. Иногда с крепостной стены я видел, как вдали, на темной равнине зажигается сигнальный огонь. Я говорил себе: это костер. Вскоре пламя гасло. Литературный стиль был цитаделью, оберегавшей меня от воображения и его верной тени — чувствительности. Я требовал от своего стиля одного: чтобы он не терял напряжения, все время был на вахте, как помощник капитана на корабле. Больше всего я ненавижу поражение. Я представлял себе, как меня заживо разъедает коррозия, как желудочный сок чувствительности сжигает мои внутренности, как я раскисаю и расплываюсь, растекаюсь жалкой лужицей; или, что то же самое, как я приспосабливаю свой стиль к размякшему, обессилевшему времени и обществу. Разве бывает фиаско более позорное, чем это?
Как это ни парадоксально, подобное разложение, смерть духа нередко рождают истинные шедевры литературы — это факт общеизвестный. Наверное, появление такого шедевра можно назвать победой искусства, но это победа без борьбы; каковы, впрочем, и все триумфы художественного слова. Я же искал схватки — неважно, победоносной или гибельной. Меня не привлекало ни поражение без борьбы, ни, тем более, бескровная победа. Вместе с тем я хорошо знал, сколь обманчива природа войн, разгорающихся внутри искусства. Если я стремился к схватке, мне достаточно было оборонять крепость своей литературы, а наступательные действия следовало вести в иных сферах жизни. В том, что касается моего стиля, я должен был стать хорошим защитником, в остальном же — хорошим нападающим. Иными словами, мне предстояло овладеть всем тактическим арсеналом борьбы.
В послевоенные годы, когда рухнули все существовавшие прежде общественные ценности, я считал (и часто говорил другим), что настало время возродить классический японский идеал единства культуры и боевого духа, литературы и меча, Слова и Действия. Затем я охладел к этой идее. Когда же я научился у солнца и стали секретному искусству лепить Слово из Тела (а не наоборот, как прежде), во мне возникло равновесие двух разнозаряженных полюсов, и постоянный ток в моей душе уступил место току переменному. Изменился сам мой внутренний механизм — теперь я ощущал в себе как бы работу генератора переменного тока. И тогда я изобрел новый способ существования: два несмешивающихся, противоположных по своей сути потока, которые, казалось бы, должны были вбить клин в мою душу и расколоть ее пополам, на самом деле создали вечно обновляющееся равновесие, где погибшее тут же возрождалось к жизни, чтобы снова погибнуть и возродиться. Мой собственный вариант единства Слова и Действия зижделся на признании биполярности моего внутреннего устройства со всеми его конфликтами и противоречиями.