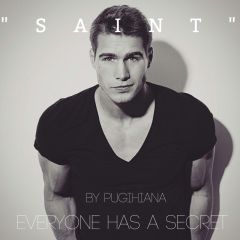Юкио Мисима - Солнце и сталь
Но прежде я должен рассказать о своей первой встрече с солнцем.
Как ни странно это прозвучит, я встречался с солнцем всего дважды. Иногда бывает так: жизнь сводит тебя с человеком, с которым ты не расстаешься до самой смерти; при этом со временем обнаруживается, что вы оба мимоходом уже видели друг друга когда-то прежде, но в тот, первый, раз не придали значения этой встрече. Примерно так же произошло и у меня с солнцем.
Наша первая, мимолетная, встреча состоялась летом сорок пятого года. Только что закончилась война, и солнце неистово палило, выжигая буйные летние травы, которыми густо заросла граница между военной и мирной жизнью. Граница эта напоминала проржавевшие, полуразвалившиеся проволочные заграждения, едва видные сквозь зеленые заросли. Я шагал под жаркими лучами, не имея ни малейшего понятия о смысле солнечного сияния.
Плотный равномерный свет бесшумно лился с небес на землю. Трава, кусты, деревья зеленели точно так же, как во время войны, точно так же омывало их безжалостное полуденное сияние, покачиваясь знойным маревом под легкими дуновениями ветерка. Зрелище это показалось мне миражом, я коснулся листьев пальцами и был удивлен, когда видение не растаяло.
Долгие месяцы и годы солнце ассоциировалось у меня с распадом, гибелью, разрушением. Оно сверкало на крыльях взлетающих бомбардировщиков, на щетине штыков, на кокардах фуражек, на золотой вышивке знамен. Но глядя на игру его бликов, я думал совсем о другом: о поблескивающей крови, льющейся из зияющей раны; о серебристых мухах, густо обсевших бездыханное тело. Солнце, властелин смерти, увело молодых парней в южные моря и дальние горы, на неминуемую гибель, а потом торжествующе озарило своим слепящим сиянием пустынные, гниющие, кроваво-красные горизонты.
Образ солнца был для меня неотрывен от образа смерти. Разве мог я представить, что настанет день, когда светило осенит мою плоть благодатью? При этом я хорошо помню, как солнце военной поры будило во мне грезы о славе и сияющем величии.
В пятнадцать лет я написал такое стихотворение:
А солнце все так же сияет,
И люди возносят солнцу хвалу.
Лишь я избегаю солнца.
Я душу прячу в яму, во мрак.
До чего же я любил свою «яму», темную комнатку, где на столе стопками громоздились книги! Как нравилось мне неспешно рыться в собственной душе, укутываться в раздумья, прислушиваться к жужжанию чахлых жучков, копошившихся средь зарослей моих нервов!
Враждебность к солнцу была единственным проявлением моего юношеского недовольства героическим духом того времени. Сиянию дня я предпочитал ночь Новалиса и ирландские сумерки Йетса. Я писал повести о кромешной тьме средневековья. Однако после окончания войны до меня постепенно дошло, что теперь ненавидеть солнце — означает слиться с толпой.
В книгах, которые выходили в свет после поражения в войне, господствовал идейный мир ночи, и разница состояла лишь в том, что моя ночь была несколько эстетичнее. Особым почтением стала пользоваться уже совершенно кромешная тьма, по сравнению с которой даже густая, как мед, ночная чернота моей юношеской прозы казалась чуть ли не светом. И я утратил веру, питавшую меня в военные годы, в моей голове появились новые мысли: а может быть, я с самого начала, сам о том не подозревая, принадлежал к приверженцам солнца? Вероятно, так оно и было. Я пришел к выводу, что моя неприязнь к солнцу, моя упорная влюбленность в собственную ночь, маленькую и не похожую на другие, — это подсознательное желание шагать в ногу со временем и не более.
У людей, чьи помыслы отданы темноте, слабый желудок и сухая, лишенная глянца кожа — у всех, без исключения. Эта публика норовит окутать идеологическим мраком целые эпохи и отвергает солнце в любых его известных мне ипостасях. Мои взгляды на жизнь и на смерть эти люди тоже отвергают, поскольку в моем мировоззрении слишком много солнца.
Вновь я встретился с солнцем на палубе океанского парохода, мы заключили тогда мир и союз. Это было в 1952 году, я впервые в жизни отправился в заграничное путешествие. Но о своем рукопожатии с солнцем я уже писал в другой книге, поэтому повторяться не буду. Напомню лишь, что это была вторая наша встреча.
С того дня моя связь со светилом не прерывалась. Солнце стало главной дорогой моей жизни. Со временем оно покрыло мою кожу загаром в знак того, что отныне я принадлежу к его племени.
Но, скажете вы, разве сама человеческая мысль не принадлежит царству ночи? Разве не таится словесное творчество в жарком полуночном мраке?
Что ж, я не оставил своей давней привычки работать до рассвета, и окружает меня множество людей, чья бледная кожа неопровержимо свидетельствует об их принадлежности к племени ночных мыслителей.
Почему человек вечно устремляется в неведомые глубины, в самую бездну? Почему мысль, подобно свинцовому грузилу, способна двигаться лишь вертикально вниз? Отчего бы ей не изменить направление движения и не взмыть вверх?
Я не мог понять, почему человек с таким презрением относится к гаранту своей физической формы — собственной коже, отводя ей жалкую роль рецептора осязательных ощущений, и только. Почему мысль, стремясь достичь глубины, непременно должна погрузиться в бездонную пропасть, а если уж решит воспарить, то улетает в столь же непостижимые заоблачные высоты, начисто забывая о существовании тела? Законы динамики разума были для меня загадкой. Если природа мысли такова, что ей необходимо во что бы то ни стало сохранять линейно-вертикальное движение, то почему бы мозгу человека не попытаться обнаружить глубину и смысл в сложной, многосоставной субстанции, отмеряющей наши физические пределы и отделяющей внутренний мир от внешнего? Это казалось мне вопиюще аналогичным.
Солнце же вытягивало мою мысль из кишечных, ночных глубин чрева ближе к поверхности и свету — туда, где под золотистой кожей наливаются силой мускулы. Солнце приказывало мне построить для своих идей новое жилище, надежное и прочное, которое располагалось бы в непосредственной близости от моей телесной оболочки. Стенами этого нового дома должны были стать загорелая, сверкающая кожа и мощные, рельефно очерченные мышцы. Большинству интеллектуалов недоступна идеология физической формы именно из-за того, что эти люди не создали для себя подобного обиталища.
Идеология ночи — детище слабых, болезненных внутренностей; она возникает сама собой, прежде чем человек успевает понять, что, собственно, было отправным пунктом — идея или придушенный голос зарождающейся болезни. Втайне от хозяина плоть медленно, но верно формирует идеологию. В то же время внешний облик тела виден и понятен каждому, посему для создания идеологии поверхности тела необходимо сначала закалить, подготовить свою оболочку. Со мной было так: я увлекся идеей глубины телесной оболочки, а уж потом понял, что первоочередная задача — готовить свою плоть.
Мне было ясно, что гарантию дает только тренировка мышц. Кто поверит теоретику физического совершенства, если он слаб и хил? Можно, конечно, рассуждать, запершись в кабинете, об идеологии ночи, но разглагольствовать о проблемах тела — неважно, восхваляя его или принижая, — у тщедушного книжного червя права нет. Я очень хорошо, я бы сказал, слишком хорошо это понимал, а потому в один прекрасный день решил, что непременно обзаведусь роскошной мускулатурой.
Прошу читателя обратить внимание на следующее обстоятельство: мое решение целиком и полностью было продуктом разума. Тренировка тела делает непослушные мышцы послушными. Точно так же, по моему глубокому убеждению, можно тренировать и собственную идеологию. И мускулы, и идеи подвластны некоей властной силе — назовем ее законом природы, — которая привносит в их развитие определенный автоматизм, но мне не раз приходилось видеть, как меняют направление мощного речного потока, прорыв один-единственный узенький канал.
Это еще один пример единства тела и духа. Оба они склонны, попав во власть идеи, в мгновение ока создавать целую маленькую вселенную, где, на первый взгляд, будут царить полная гармония и порядок. На самом деле картина эта совершенно статична, но создает впечатление бурного центростремительного движения. Способность тела и духа сотворять пусть недолговечный, но совершенный макет мироздания напоминает действие миража или галлюцинации, и все же быстротечными мгновениями счастья, выпадающими на нашу долю, мы часто бываем обязаны этому иллюзорному ощущению гармонии. По сути дела, так проявляется оборонительная функция жизни, которая сжимается в клубок, как еж, и ощетинивается иголками против хаоса внешнего мира.
Таким образом, я имел возможность разрушить одну выдуманную вселенную и заменить ее новой, вырвать из цепких рук жизни процесс формотворчества и использовать его в собственных целях.