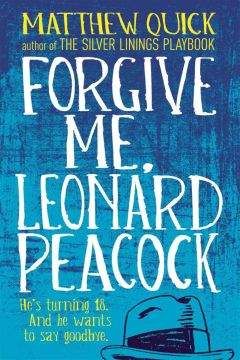Александр Проханов - Матрица войны
Пробуждение в Ташкенте, утренний сочный свет, цветущие сады под крылом. Машина на мгновение касается стальной полосы, чтобы снова взмыть и повиснуть в розовом недвижном пространстве, где медленно, в накаленной глубине, текут бестравые горы, туманные горячие осыпи, рыжие потоки камней. Афганистан, красный, как Марс, с кратерами древних упавших метеоров, с трещинами иссохших каналов. Острый тоскующий взгляд ищет с высоты слабую вспышку взрыва, малую пулеметную искру. Там, в афганских горах, он сам идет, отекая горячим потом, навьючив боекомплект и продукты, и нога в запыленном ботинке ступает на камень, где лежит белый скелет мертвой птицы. И пока они висят над красноватой мглистой землей, кажется, что самолет летит сквозь ржавчину сгоревшей брони, окалину разорванных машин, прах истребленных кишлаков и к стеклу иллюминатора прилипают зеленые частицы расколотых изразцовых мечетей, бледный пепел опаленных садов.
Остановка в Карачи, пассажиров держат в салоне. Вокруг самолета ходит наряд автоматчиков. Подкатывает под крыло сияющая, из нержавеющей стали цистерна. Пакистанец-заправщик с черным маслянистым лицом, словно умытый нефтью, давит рычаги и кнопки, смотрит на манометры. Вокруг туманное серебристое пространство порта, рыбье, переполненное икрой брюхо DC-10, синяя надпись «Панамерикен». И острое любопытство, влечение к автоматчикам с М-16, к их расовому типу, к антропологии их смуглых лиц, горбатых носов, фиолетовых губ. Он – в недрах другого континента, другой культуры, и если невидимо сойти с самолета, просочиться, как тень, сквозь охрану, шагнуть на горячую, омытую ливнем траву, то окажешься среди иного народа, его мистической музыки, таинственной красоты, витающей над горячими рынками, белыми минаретами, ленивыми потоками огромных медлительных рек.
Полет над Гималаями – голубое, алое, белое. В ледниках загораются огромные разноцветные фонари. Глаз не может утолить чудную жажду, созерцая густую лазурь, в которой расселись по вершинам белобородые старцы, недвижные мудрецы, стерегущие врата в заповедное царство, куда нет входа земными путями и тропами, и только самолет пролетает над едва различимыми пагодами, золочеными сонными Буддами.
Бомбей – худощавые, с огромными глазами индусы, белые тюрбаны, алое пятнышко между женских черно-синих бровей. И сидеть, дожидаясь посадки, наслаждаясь счастливым одиночеством, своей неопознанностью, наблюдая из-под шапки-невидимки торопливые толпища, не ведающие, что он, Белосельцев, оказался на миг среди них.
Курчавые тенистые джунгли, испарения горячих болот, оловянная струя Меконга. Вьетнам, драгоценный, нарисованный на земле густым изумрудом, синим кобальтом, красным суриком. Хочется коснуться мягкой теплой земли, поднести к губам белый лотос, узреть в ветвях золотистую горбоносую птицу, клюющую сочный плод. Краткая посадка в Сайгоне с разгромленными коробами ангаров, где в бетонных пазухах догнивают взорванные бомбардировщики, алюминиевым сором блестят расщепленные «дугласы», завалились на бок пятнистые, без винтов, «сикорские». И кажется, что в мятых кабинах еще истлевают пилоты, костлявые руки в браслетах давят рычаги и гашетки. Война, неостывшая, сочится зловонием, мерцает ядовитыми угольками, источает голубые дымки тлеющих комбинезонов.
И вот он стоит на балконе старого отеля в Пномпене, рассматривает затуманенный город, над которым клубится желтая грозовая туча, несущая пыльцу ядовитых растений, ртутные вспышки ливня. И быстролетняя мысль: «Это я, Белосельцев, пролетел полземли, вброшен в чужую страну, где меня ожидает туманное, еще не осуществленное будущее, в котором, как семечко в яблоке, спрятана пуля».
Еще одно пробуждение в Пномпене, когда на черных фасадах в пять утра, перед отменой комендантского часа, загораются желтые, лампадно-маслянистые окна. Шлепает, шелестит падающая из кранов вода. Стучат по камням голые пятки. Позванивают звоночки выводимых велосипедов, прислоняемых к стенам у дверей. Мостовая еще пуста, под запретом, как пустое русло, по которому вот-вот хлынет бурный поток. Поднимаются на окнах циновки. Видно, как женщины, неприбранные, медлительные после сна, отвязывают москитные пологи, скатывают на полу постели, расчесывают длинные черно-блестящие волосы. Мужчины, полуголые и худые, с переброшенными через плечо полотенцами, пьют чай за низкими столиками, поглядывают на безлюдную улицу, на звездное небо, прислушиваются к шелестам, звякам. И вдруг на углу визгливо и яростно, с мембранным металлическим эхом ударит в громкоговорителе музыка. И сразу метнутся на дорогу тени велосипедистов, полосуя тьму, легкие, острые, как стрижи. Гуще, чаще, и вот, мигая и вспыхивая, сплетаются в колючий подвижный ворох, мешаются с треском моторов, с лучами автомобильных огней, окутываются бензиновой вонью, растревоженным тлеющим запахом нечистот, сладостью гниющих фруктов, дымом жаровен. Над крышами, гася молниеносно звезды, налетает латунный рассвет. Разгромленное здание рынка проступает горчичной громадой. И в доме напротив, где разбрызганы метины артиллерийских осколков, начинает розоветь сохнущий женский платок.
Он стоит на балконе, держится за влажный поручень, думает: «Это – я. Мое утро в Пномпене».
Он увидел, как рядом, на соседний балкон, вышла женщина. Сонно и сладко тянулась после сна, не замечая его. Щурилась на яркую улицу, отбрасывала на затылок черные тяжелые волосы, которые медленно, шелковисто осыпались обратно на полуголое смуглое плечо. Запахнула просторный халат, и он, следя, как захлестывает она на бедрах длинный пояс, видел ее босую ногу, гибко наступившую на решетку балкона.
Она заметила его, не смутилась своего утреннего неубранного вида, полуоткрытой груди. Улыбнулась белозубо.
– Доброе утро, – сказала она по-французски. – На воздухе так же душно, как и внутри.
– Доброе утро, – ответил Белосельцев. – Похоже, сейчас будет ливень. Ждешь прохлады, а с неба льет кипяток.
– Сегодня ночью несколько раз останавливался вентилятор. Отключали электричество. Под пологом было невозможно дышать. Я выходила на балкон, и сразу же налетали москиты. По-моему, на ночь они все переселяются в город с Меконга. А с рассветом улетают обратно.
– Мои не хотят со мной расставаться и днем. Им нравится мой номер. Нравится, что в нем нет кондиционера, что вентилятор плохо работает и вода идет с перебоями.
– Спасибо, хоть этот отель сохранился. Я боялась, что придется жить в кемпинге, в походной палатке.
– Виктор Белосельцев, журналист из Москвы, – представился он, полагая, что сказано достаточно, чтобы установить первый, самый легкий эскиз отношений, необязательных, хрупких, готовых рассыпаться, как паутинка.
– Вы русский? – удивилась она. – А я итальянка. Мария Луиза Боргезе, инспектор ООН. Инспектирую поступление гуманитарной помощи.
Она смотрела на него пристально, с веселым интересом. В ее темных длинных глазах, как в темных ягодах, дрожали фиолетовые искры. Смуглое молодое лицо, крепкие сочные губы, брови, прямые и резкие, – все было красиво, свежо. Отделенный от нее решеткой балкона, он вдруг почувствовал ее прелесть, силу и гибкость тела под неплотной розовой тканью. Смотрел на ее полуоткрытую грудь, загорелую, с темной ложбинкой, на то место, где начиналась белизна, мягко исчезала в просторном вырезе.
– День-другой я пробуду в Пномпене. Напишу в мою газету, как восстанавливается разрушенный город, как в нем пробуждается жизнь. А потом, если мне дадут разрешение, хочу поехать на север, увидеть Ангкор. Я так много читал об Ангкоре, столько раз видел снимки с его барельефами. Будет нелепо оказаться в Кампучии и не увидеть Ангкора. Но там, говорят, идут бои. Вьетнамцы вытесняют к границе красных кхмеров. Буду просить разрешение на поездку в Ангкор.
– Здесь всем управляют вьетнамцы, – сказала итальянка. – Кампучийцы ничего не решают. По линии ООН мне нужно побывать в Сиемреапе и Баттанбанге. Там находятся наши пункты, склады с гуманитарной помощью. Вьетнамцы с большой неохотой дали мне пропуск. Ссылаются на то, что на дороге опасно. Повсюду засады и мины.
– Для женщины это не слишком подходящее занятие – ездить по заминированным дорогам, – сказал Белосельцев. – Там в самом деле стреляют.
– Это моя работа, моя профессия. До этого я была в Анголе, была в Мозамбике. Там, где воюют, люди нуждаются в помощи. Особенно дети. Мы направляем сюда детские медикаменты, детское питание. Но говорят, оно не все доходит до места.
И опять он почувствовал к ней влечение, к ее гибкой босой стопе, худой смуглой щиколотке. Ощутил таинственное совпадение их судеб, мимолетно столкнувшихся на балконах старого дома, под желтой клубящейся тучей, в которой, как люминесцентная лампа, вспыхивала и пульсировала молния. Две одинокие жизни, каждая со своей задачей и смыслом, своим кратким пребыванием в мире, оказались вдруг рядом. В ее глазах, как в ягодах черной смородины, искрятся золотисто-лиловые точки, густые темные брови слегка шевелятся, и она улыбается, смотрит на него через перила балкона, и можно подойти, коснуться ее рукой.