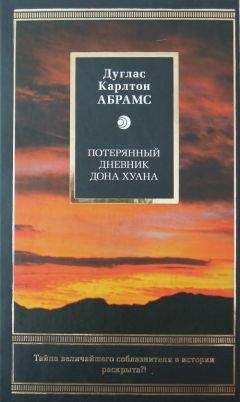Андрей Иванов - Копенгага
Еще потому, что в детстве у нее было такое богатое воображение, что, не успев уснуть, она начинала с открытыми глазами видеть сны наяву. Она видела себя идущей по шоколадной улице, обсаженной магнолиями и банановыми деревьями, вместе с ней браво шел дядя Степа, неся на плече стремянку. С ними шла ее любимая игрушечная собачка с покусанным носом, шагала кукла с одним стеклянным глазом и большим синим бантом, но тут в комнату входили либо мама, либо отец и били ее по голове, заставляли закрыть глаза и спать, а не дурью маяться. Но у нее снова приключались сны наяву, вокруг нее парили арбузы, тыквы, дыни, сосед шагал по облакам, пошатываясь и горланя: Где эта улица, где этот дом…
Ее водили к врачу; врач сказал такое бывает, это пройдет. Но у нее снова это приключалось, она боялась, что родители «это» заметят, и тогда она притворялась, что спит. Она закрывала глаза и делала вид, что спит, как люди, что ей, как и всем, снится сон, хотя и не понимала: ни что такое сон, ни что такое спать, но потом потихоньку научилась, и видения прекратились. Она боялась родителей, она всегда от них получала тумаки и упреки, всю жизнь.
Даже взрослую, уже при мне, ее уводили на кухню, закрывали дверь, дед уводил меня в комнату, где беседовал со мной или смотрел телевизор, а на кухне два-три-четыре часа бабушка давала наставления матери, а потом бабушку сменял дед, и давал новые и новые наставления.
В детстве она была грязнулей, она всегда успевала запачкаться, даже не дойдя до улицы, когда они только выходили из подъезда, у нее все лицо уже было в саже, которую она успевала собрать пальцем. В пионерском лагере ей дали флажок почетной замарашки. Бабушка ее била, когда она приходила с улицы вся в грязи. Она была рада остаться на улице, на обед не приходила, питалась на улице, лазила по садам, собирала бобы, яблоки и ягоды…
Жили они тогда на Штромке, возле леса. Район строился, ее часто запирали одну. Тогда она выбрасывала из окна игрушки, стараясь таким образом привлечь к себе внимание детей с улицы, за это ей, конечно, доставалось. Она от скуки занималась ерундой, часами ставила катушки — одну на другую (бабка работала на катушечной фабрике). Мама находила в комоде кофеиновые таблетки и ела их, а потом опять ей что-то чудилось. Приходили родители и лупили ее. Когда они уходили, она включала радио и начинала танцевать, кружилась до тошноты.
Вокруг шла стройка. Она смотрела в окно и видела, как ездит каток, как грузовики везут доски, а обратно едут порожняком. Домики росли как грибы. Появлялись полные щебня ямы, в них сверкали загорелые спины солдат, лопаты. Потом поднимались стены, в них появлялись окна. Из своего окна она подслушивала разговоры строителей, которые пили в тени тополей пиво из банки, закусывая воблой, смеялись, — над ними плыл пух. Над стенами поднимались крыши, в дома въезжали люди, на окнах появлялись занавески с цветами, птицами, разноцветными полосами. Шум блуждал вокруг дома, постепенно ослабевая, пилы визжали тише, тише… молотки стучали все более приглушенно… голоса тоже удалялись… слов было не разобрать…
Она включала радио и кружилась, воображала себя балериной. Придумывала себе море, над которым она парит, словно чайка. Говорила с диктором радио, повторяла странные длинные слова, кривлялась перед зеркалом, перебирала мамины вещи, назначения которых не понимала, снова находила таблетки и ела их. Ее снова рвало, и снова ее лупили…
По пути в школу ей обязательно нужно было попытаться перейти огромную лужу на цыпочках. Она отдавала свой завтрак собакам, приносила в дом котят, которых дед выносил из дома в ведре.
Она страдала графоманией и полным отсутствием логического мышления; она не запоминала дат, но могла выучивать длинные бессмысленные лозунги и формулировки, которые повторяла, как попугайчик. Вот за это ей ставили оценки и переводили из класса в класс. Так было до тех пор, пока не попался жуткий учитель математики, который сказал, что она закончит школу только в том случае, если уйдет в другую. Ушла в вечерку. Потеряла год или два, затем уехала на стройку Нарвской ГРЭС. У нее там был поклонник, он долго писал ей письма, которые сжигали то бабка, то дед… Мне в этом признался дядя, уже в Дании, когда мы крепко выпили, его вдруг прорвало, и он наговорил всего такого… Смущался, вздыхал, когда рассказывал: знал и ничего не говорил ей про те письма, знал, что родители сжигали их, и молчал, даже тешился отчего-то… «Вот отчего?.. отчего я тешился?» — сам себя спрашивал дядя, качал головой, не мог ответить. Сказал, что теперь сильную вину перед ней за это испытывает.
Потом завелся другой, волосатый, носил дудочки и рубашку с длинным воротником, пел под гитару Girl…
У нее были туфельки «лодочки», которые она однажды дала поносить какой-то бойкой девице, и та с ними укатила в Москву. Мама недолго думая купила билет до Москвы и нашла ее там. В три часа утра она позвонила в дверь к незнакомым людям, спросила некую Козлову, та вылезла заспанная: «Ты?». Мать потребовала у нее туфельки, та в свое оправдание сообщила, что выходит замуж. Моя мать утверждала, что этим она, конечно, обязана ей, то есть туфелькам, которые она дала ей поносить на один вечер, а та сносила за две недели так, будто безостановочно танцевала в них месяц!
А потом был отец, роды и все остальное. Это было своеобразное бегство от родителей, или просто бегство в другую жизнь. Но в итоге из одного тошного кошмара она шагнула в другой, в котором единственной отрадой был я. Именно мне она и посвятила всю себя. Я этого никогда не ценил — принимал это как должное. Черствый эгоист.
Когда я стоял на подоконнике за занавеской в детском саду, глядя в окно с третьего этажа, ожидая ее, я на нее сердился. Сердился за то, что она не идет так долго. Аж бесился, злился на нее за то, что она меня поместила в это ужасное идиотское заведение, в этот детсад, в котором я ненавидел буквально все! Ненавидел каши, подгорелый пудинг, кисели. Полы, натертые мастикой, татарку-уборщицу, ее выцветший вонючий халат, ее платок на голове, ее шаги и пыхтение, потому что меня беспокоили ее движения, она была порывиста и суетлива, как крыса, и глаза у нее были навыкат, кровавые и дикие. Терпеть не мог, как она прочищала горло; ее бесконечные платки, в которые она так часто и мощно сморкалась. Особенно ненавидел звук, тяжелый, редкий, основательный звук ведра, которое она переставляла в зале при уборке в тихий час, слегка при этом бряцая шпорой ручки ведра, и шуровала, как пыхтящая крыса, под столами, громко задевая шваброй ножки столов. Это нервировало. Мне представлялось ведро, полное мутной воды, как из болота набранной, и то, как в это ведро ныряет нутрией ее тряпка; еще представлялось, будто в зале не уборщица, а делает редкий шаг одноногий великан (огромный дядя Клима)…
Ненавидел запахи и пары из кухни. Ненавидел, как беспокойно громко расставляли тарелки, визгливые ложки в мисках, эхо стульев и голосов; пыль, которая каталась по полу; постельное белье, грубое, хрустящее… Оно скрипело на пальцах, пахло кипятком и хлоркой, чужим миром, в котором нет покоя, биения теплой жизни. Простыни напоминали о женщинах, которых я видел у паровоза, что намертво встал в тупике у Балтийского вокзала и служил прачечной. В ней работали женщины, необыкновенно крупные, в свободных белых рубахах, платках, с тяжелыми вислыми грудями, закатанными рукавами, мускулистыми руками, толстыми шеями, узлами волос, черными мохнатыми бровями, в передниках и галошах (ненавижу галоши!). Паровоз иногда выдувал белую струю пара; бабы гоготали…
Мама ходила покупать билет в вокзальной кассе, стояла в очереди, я терпеть не мог очереди, сидел на скамейке, на платформе, ждал ее и рассматривал тех женщин… Они пили чай из стаканов с подстаканниками, как в вагоне, они были пропитаны парами, влагой, дымом сигарет, потом… Они были настоящие. Они принадлежали паровозу, были частью этого стального динозавра; их красные щеки, мощные тела, розовые руки, громкий хохот, песни, шутки — все это было жуткой правдой о жизни, которой я боялся, потому что она не имела ничего общего с лаской мамы, драконами и рыцарями, замками и принцессами на ее костюме, сказками, которые она мне читала, мехом ее воротника, инеем на траве, шепотом ее нежных слов, которые проглатывал вой электрички, разрезал скрежет стальных колес, душил шум голосов; толпа, вагоны, автобусы, ветер над болотами… мир!
Эти бабы и паровоз были сродни грохоту грузовиков, мастерской и гаражу отца. Было что-то общее у них с трубой, свалкой, истерическим смехом дяди Климы и криком за высоким забором. Над всем этим, как и над свалкой, парили чайки. Над всем этим, как и над болотами, хохотало воронье; они сидели в своих жутких гнездах под крышей неба и ждали, когда мы все сдохнем, и когда сдохнем, они слетятся и выклюют нам глаза, а потом сквозь глазницы доберутся до мозга; потом будут ждать, когда мы подгнием, чтобы легче клевалось, будут затевать меж собой свалки, отвратительные драки, с криком, хлопаньем крыльями, карканьем. Но мы этого не увидим, мы будем гнить, неподвижно лежа на дорогах, полянках, ступеньках, потому что бабка сверху сказала, что однажды они из трубы выпустят такой красный дым, от которого мы все умрем — и нас всех пожрут вороны. И я думал, что так будет лучше. И Лешка тоже после взбучки со слезами на глазах говорил: «Чтоб вы все сдохли, суки!»