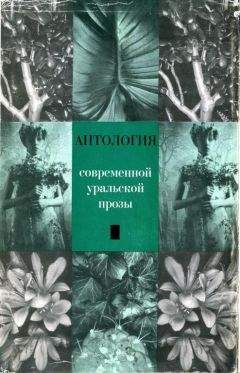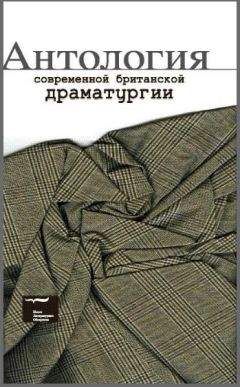Андрей Тургенев - Месяц Аркашон
На обратном пути Эльза проворонила развязку, благодаря чему мы долго ехали прямо в закат. Великолепный полноцветный широкоформатный закат: сквозь густые перламутровые тучи щедро истекало багровое солнце. Разворота не было и не было, Эльза начала нервничать, а я ее утешал в том смысле, что будем теперь гнать, пока не упремся в горизонт. Это мало кому удается — достичь горизонта.
ЭПИЛОГ
Алька ждала меня на скамейке через канал от Риксмузея.
— Как ты хромаешь, жуть! Я думала, ты преувеличиваешь в письмах…
— Увы. Все довольно кисло. Нужна вторая операция. Двигаться по-старому не будет.
— И что ты теперь?
— Ну, что… Буду пока продюсером. Танцевать хочется, конечно. Ну, буду хромым танцором.
— Ты ведь и так черт знает как танцуешь, наискосок всему.
— А буду еще и хромой.
— Ага, — сказала Алька. Было очень холодно и промозгло.
Алька куталась в зябкую ветровку, кисти ее покрылись цыпками, но она отказалась переползать в музейное кафе. Хочет посидеть «на природе». Мы выпили виски из фляжки. На мосту крикнула грязная чайка. Алька затушила окурок в спинку скамейки. Разговор не клеился. Алька не слишком мне рада. Увидев ее отсутствующие глаза, я понял, что все проникновенные речи, которые я выхаживал в табачном дыму вчера вечером, повторял во сне и уточнял сегодня в самолете, — коту под хвост. Можно их и не произносить. Алька сразу говорила, что лучше встретиться позже, через неделю, через две, но я настоял и прилетел, надеясь изменить ее настроение при личном контакте. Обнять-поцеловать. Пустые надежды! Альки нет. Затягивается джойнтом — даже не предлагает. Прислушивается к внутреннему моторчику.
Заморосило, ветер сорвал с меня бейсболку. Бейсболка улетела в канал и поплыла мимо зеленых лужков Музеумплейн. Ее обогнал раскрашенный мондрианками катерок. Бывает так: понимаешь вдруг, в кратчайшую и бесповоротную секунду, что вот: кончилось. Что-то большее, чем чувство к Альке. Кураж, что ли, кончился. Когда подвезут следующий — неведомо. Можно уже вроде и так обойтись. Ветер приносит запах соленой селедки. Кажется, что в душу засунули презерватив, наполненный водой.
— Что слышно вообще? Ты давно не писала…
— Что слышно… В твоих краях, во Франции на югах, завелся человек-летучая мышь. Ночами рассекает над виноградниками в черном плаще… Утащил крестьянскую девчонку, но наутро вернул невредимую в жемчужном ожерелье.
— Молодец, — говорю я. — Слушай, поедем куда-нибудь. Давно я не был на твоих выставках. Соскучился даже… по настоящему искусству.
— Спасибо, Танцор, — она называет меня не так, а по имени. Она редко называет меня по имени. — Домой надо. Мама болеет… Много всякого. Я когда в Европку обратно соберусь, напишу тебе.
— Ну, ты ведь собиралась уезжать еще вон когда, а осталась…
— Сейчас точно уеду. Отсюда полечу — нидеры легче без визы выпускают.
— Ясно… А сегодня ты как? Погуляем? — спрашиваю я и чувствую, что жду отрицательного ответа. Смотрю на замерзшее, скукожившееся лицо. Надсадного, чуть кирпичного, как город вокруг, цвета. С потрескавшимися губами, тяжелыми веками, ранними морщинами. Раньше мне нравилось, что Алька совсем не пользуется косметикой. Сейчас я думаю, что ей бы не помешало.
Ей бы не помешало, но я уже ни при чем. Я смотрю на Альку, а вижу череду ее фотографий на фоне попсы: Алька и Эйфелева башня, Алька и брюссельская модель атома, Алька и фонтан в парке Сан-Суси. Нет всего этого — башни, Брюсселя, парка. Европка — сон. Увы, уже сбывшийся.
— Не могу, — говорит Алька. — У кореша в «Парадизо» концерт, я помогать обещала, слайды менять… Подваливай вечером — музыку хорошую послушаешь.
— Да… Спасибо. Приду.
Не приду.
— Слушай, я решила ту задачу… ну, про девять точек четырьмя линиями.
— Ну!
— У тебя бумага есть? Смотри… Надо просто не замыкаться в квадрате, вести линию дальше… Выйти за пределы… Вот так.
— Всех делов, — повторяет Алька, — не замыкаться. Не бояться выйти за пределы. Вот так.