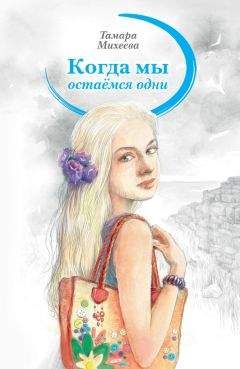Юрий Азаров - Новый свет
— Ну что это у вас такой беспорядок!
— Вы знаете, какие прекрасные стихи получились, — валяю я дурочку, отвожу Шарова из зоны его собственной разъяренности, в пение свое полифоническое затаскиваю, но Шаров не лезет в пение, шмыгает носом, отбрыкивается ногами, стоит на своем:
— Стихи — это хорошо, но порядок есть порядок. А ну, Никольников, марш за тряпкой!
И мы безропотно наводим порядок, потому что по справедливости тут все. И творческая волна со свистом схлыни-вает из комнаты, из башки моей, и уже не айсберги, а просто голые скалы без всякой морской глади в черепе изнутри давят, и пение полифоническое стихло — глухота пошла по всей нашей общей физиологии. И уже другой кусочек мозга шевелится в голове: восстановится или не восстановится вот то явившееся прекрасное пение в теле, и этот кусочек мозга свирепствует: «Ну когда же ты уберешься, Шаров, со своим порядком?» А он не убирается, понимает, что он лишний здесь, что все ждут его ухода, и не хочет сдаваться, но и переломить себя не в состоянии, но все же напоследок грозится, хоть и по-доброму, но на всякий случай забивая себе деляночку на дальнейшее развитие событий: «Я же говорил, я же предупреждал!»
Иногда без меня разыгрывались совсем неприлично-оскорбительные сцены.
— Ось, спиймав. Сыдыть в лодки и шось пышить у новых штанях, — это Каменюка обращается к Шарову, держа за руку губастого Никольникова.
— Чего тебя в лодку понесло в новых штанах?
— Забыл переодеться.
— А чего вообще в лодку забрался?
— Я, кажэ, стихи запысую, — Каменюка говорит, протягивая тетрадку Никольникова.
Шаров раскрывает тетрадь. Читает:
Свет-Наташа! Где ты ныне?
Что никто тебя не зрит?
Иль не хочешь час единый
С другом сердца разделить?
— Цэ ж яка Наташка? Внучка Федоренчихи, мабуть, я бачив, як вона сюда швендяла, — это Злыдень подошел. Шаров не слушает. Листает дальше:
Вчера мне Маша приказала
В куплеты рифмы набросать
И мне в награду обещала
«Спасибо» в прозе написать.
— Так оно и есть, — заключает Каменюка. — Наташка с Машкой учора приходылы.
— Це та Ошуркова Машка, що горбата трохи?
— Та чого там вона горбата? И не Ошуркова, а Савченка Трохима дочка.
— Здоровеньки булы, у Трохима дочка давно замуж выйшла.
— То старша выйшла, а цэ мала ще, у первому класси учится.
— Так шо ж вона, сюда на танци ходэ? Не може бути.
— Ото ж и я вижу, не може буты. А цэй пишэ про ней.
— Так мало що можно написать?
Воспитательный момент явно смазывался, так как Николь-ников прислушивался к спору Злыдня с Каменюкой и, наверное, потому улыбался. Шаров вовремя меры принял: гыркнул в сторону спорящих и набросился на провинившегося:
— Не думал, Никольников, что ты так нас подведешь. Ты понимаешь хоть, что это развратом называется. Не учебой у тебя голова забита, а Машками и Наташками. Ты бы грамотностью лучше своей занялся. Слова неправильно пишешь. Смотри, у тебя тут «зрит» написано. Разве есть такое слово?
— Раньше так говорили, — ответил Никольников.
— До чого ж настырна дитвора пошла, — это Каменюка вступился за честь шаровскую. — Йому взрослые однэ кажуть, а вин за свое.
— У Пушкина так написано.
— Ты с Пушкиным себя не равняй. Куда хватил, Пушкин учился как следует.
— В революцию, можно сказать, вступыв в твои роки, — вставил Злыдень, решив блеснуть своей осведомленностью, — а не за девчатами гонявся.
— Нет, вы только послушайте, что он пишет, — заговорил Шаров, листая тетрадку. — «Кубок янтарный полон давно, пеной угарной блещет вино. Света дороже сердцу оно. Но за кого же выпью вино?» Это же открытая пропаганда спиртных напитков. Вот что, Никольников, иди-ка ты за классным руководителем и немедленно ко мне.
— От архаровцы, — сказал Шаров, когда Никольников ушел.
— А чого вы з нымы чикаетесь? — спросил Злыдень.
— А шо зробышь? — ответил Каменюка.
— Та штаны поснимать и один раз надавать як след.
— А може, правда, Константин Захарович, — обратился к Шарову Каменюка. — Мэнэ так батько аж покы не жэнывся, батогом стигав.
— Мэнэ и доси бье, — признался Злыдень. — Як влупэ другый раз, и ничего. Батько е батько.
— Та, можэ, и була б польза, — сказал Шаров. — У Англии до сих пор по закону лупят, а у нас… — Шаров махнул рукой и расстроенный ушел в кабинет.
— Подошел Майбутнев Сашко.
— Мэнэ гукали? Я на группи зараз, де Никольников?
— Ох и попадэ тоби, Сашко, — сказал Злыдень сочувственно.
— А шо такэ? — разволновался Сашко.
— Спиймалы тут твоего Никольникова, у лодку зализ и стихи писал.
— Ну и шо?
— А цього тоби мало?
— А ты расскажи, яки стихи, — подсказал Каменюка.
— Ой, Сашко, там таке написано.
— Ну, говори, шо там написано?
— Дивчат тягав у кущи, и на озеро тягав, и до ручья. Наташку Федоренчихину с дочкой Трохима, и горилку з ными пыв, усе там, барбос, написав, складно, правда, написав.
— Цього не може буты. — Спытай у Каменюки. Тилькы шо читали от тут, на цьому мисти. Пьють, зарази, с малолитства. Гляды, Сашко, зря ты с кладовой ушел, позарився на учительску должность.
— Ну иди, иди — не хвылюйся, — успокоил Каменюка, — вирши у хлопця развратни, но матюкив нэмае.
— Ни-ни, Сашко, матюкив нэмае. Чего нэмае, того нэмае, — успокоил Сашка Злыдень Гришка.
— От Шарова Сашко выскочил к неудовольствию Злыдня и Каменюки в приподнятом настроении. Подошел к своим односельчанам и на ухо несколько раз повторил слова:
— Снять штаны! Одеть штаны!
— Ты шо, здурив зовсим? — спросил Злыдень. — Ходимте, хлопци.
— Меня вытащили из студии, где я декорации с детьми писал.
— Пойдемте быстрее, новый опыт в седьмом классе смотреть, — пояснил Сашко.
Мы подошли к дверям спален седьмого класса. За дверью раздавались команды:
— Снять штаны!
И через полминуты:
— Одеть штаны!
Потом голос Смолы за дверью участился: уже нельзя было ухватить, где одеть, а где снять штаны. Мы постучали. Нам открыли. Дети были выстроены: в руках у каждого штаны наизготове.
— Одеть штаны! — скомандовал Смола. И два десятка ног влетело в штанины.
— Снять штаны! — и два десятка ног вылетело из штанов.
— Оце класс! — почесал затылок Злыдень. Смола отпустил ребят.
— Сначала на одевание уходило до десяти минут, а теперь двадцать семь секунд. А Слава Деревянко и Толя Семечкин управляются за шесть с половиной секунд — это пока что рекордная цифра.
— А шо як усе отак робыть? — спросил Сашко.
— А мы к этому и идем. Я вывел формулу: стимул — реакция плюс поощрение и наказание. По этой формуле мы всего добьемся. У нас уже обедают за полторы минуты, уборку спальни производят за три минуты, уроки учат за сорок минут. Я перенес спринтерский метод на все виды деятельности — результаты сногсшибательные.
— А какие наказания? — спросил я.
— Трудом и физическими упражнениями. Мы разработали ассортимент наказаний: первое нарушение — сто метров гусиным шагом, второе — двести и т. д.
— А трудом — як це?
— А трудом-в основном уборочные работы: мытье полов, уборка территории, тоже все подсчитано. Все по Павлову: вырабатывается — условный рефлекс.
— А слюна бежит? — спросил Сашко.
— При чем тут слюна?
— А у павловских собак слюна бигла, — доложил Сашко. Злыдень схватился за живот:
— Та шо ж, диты — собаки, чи шо?
— Если слюны не было, значит, не по Павлову, — заключил Сашко.
— В основе нашего эксперимента, — обиделся Смола, — лежит учение Павлова, признанное всем миром. За эту неделю мы закрепляли рефлекс одевания три тысячи семьдесят шесть раз — вот данные, график, количественные и качественные показатели.
— А шо если по этому графику, — завелся Сашко, — усих воспитателей выстраивать и по команде «снять штаны — одеть штаны» руководство осуществлять, а потом усе село выстраивать, и потом и за город взяться. Не, не выйдет. У Злыдня радикулит, вин за десять минут не управится. А ну, Гришка, за скильки хвилин ты раздинишься? Не, у тебя не получите, у тебя сапоги, портянки — сто лет будешь одеваться, это тебе не на столбы лазить. Вот Каменюке полегше — вин у шаровары свои нырк по Павлову и на Доску почета…
— А ты смиешься, а я в армии николы не опаздував. У мене самая лучшая тренировка була — значок дали.
— Ну вот что, — обратился я к Смоле, — опыты эти я прошу прекратить.
Мы вышли из корпуса. На стадионе из-за бурьянов виднелась широкая голова семиклассника Реброва. Он шел гусиным шагом. За ним, согнувшись и падая, двигался Эдуард Емец. За детьми, жалобно скуля, словно разделяя детскую беду, ползла, волоча свое брюхо по земле, старая Эльба.