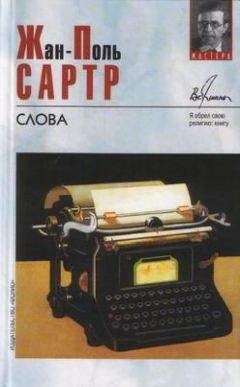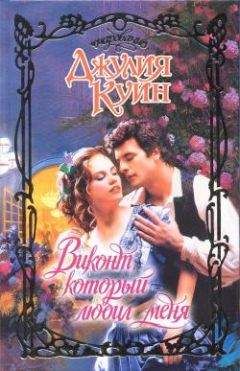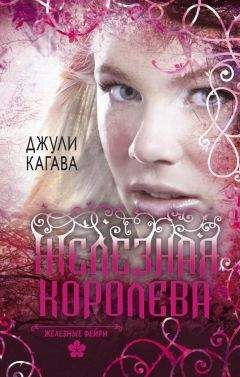Жан-Поль Сартр - II. Отсрочка
— А это?
Она засмеялась.
— Это все, что у меня осталось.
Она вернулась в тень. Большой сверток, бесформенный и темный. Но его взгляд все еще хранил ее облик. Он сложил обе руки на животе и стал глазеть в потолок. Бланшар тихо храпел; больные начали переговариваться между собой, по двое, по трое; поезд со стоном мчался в пространство. Она была бедной и больной, ее одевали и раздевали, точно куклу. И она была красива. Она пела в мюзик-холле, сквозь длинные ресницы она смотрела на него и желала с ним познакомиться: ему казалось, будто его снова поставили на ноги.
— Вы были певицей? — вдруг спросил он.
— Певицей? Нет. Я играла на фортепьяно.
— А я принимал вас за певицу.
— Я из Австрии, — сказала она. — Все мои деньги там, в руках у немцев. Я покинула Австрию после аншлюса.
— Вы уже были больны?
— Да, я уже была на доске. Родители увезли меня поездом. Все было, как сейчас, только было светло, и я лежала на полке первого класса. Над нами кружили немецкие самолеты, мы все время опасались, что нас начнут бомбить. Мать плакала, я же не унывала, я чувствовала сквозь потолок небо. Это был последний поезд, который они пропустили.
— А потом?
— Потом я приехала сюда. Моя мать в Англии: ей нужно зарабатывать нам на жизнь.
— А этот старый господин, который вас возил?
— Это старый идиот, — жестко сказала она.
— Значит, вы совсем одна?
— Совсем одна. Он повторил:
— Совсем одна на свете, — и почувствовал себя сильным и крепким, как дуб.
— Как вы узнали, что это я?
— После того, как вы чиркнули спичкой.
Он еле сдерживал радость. Она была здесь, про запас, тяжелая и безымянная, почти забытая; это из-за нее его голос горько подрагивал! Но он решил сохранить свою тайну на ночь, он хотел понаслаждаться ею один.
— Вы видели свет на перегородке?
— Да, — сказала она. — Я глядела на него целый час.
— Смотрите, смотрите: дерево проезжает.
— Или телеграфный столб.
— Поезд идет тихо.
— Да, — сказала она. — А вам хотелось бы, чтоб побыстрее?
— Нет, все равно. Ведь не знаешь, куда едешь.
— Это верно! — весело согласилась она. Ее голос тоже слегка дрожал.
— В конечном счете, — заметил он, — здесь не так уж и плохо.
— Много воздуха, — подхватила она. — И потом, хоть как-то развлекают проплывающие тени.
— Вы помните миф о пещере?
— Нет, а что это за миф?
— Это о рабах, привязанных в глубине пещеры. Они видят тени на стене.
— Почему их там привязали?
— Не знаю. Это написал Платон.
— Ах, да! Платон… — неуверенно сказала она.
«Я расскажу ей, кто такой Платон», — в опьянении подумал он. У него побаливал живот, но он жаждал, чтобы путешествие было бесконечным.
Жорж подергал ручку двери. Сквозь стекло он видел высокого усатого человека и молодую женщину с тряпкой, повязанной вокруг головы; женщина мыла за деревянной стойкой стаканы и чашки. Какой-то солдат дремал за столом. Жорж сильно дернул за ручку, и стекло задрожало. Но дверь не поддалась. Женщина и мужчина, казалось, ничего не слышали.
— Они не откроют.
Он обернулся: какой-то немолодой толстяк, улыбаясь, смотрел на него. На нем был черный пиджак, военные брюки, обмотки, мягкая шляпа и крахмальный отложной воротничок. Жорж показал ему на табличку: «Столовая открывается в пять часов».
— Сейчас десять минут шестого, — сказал он. Толстяк пожал плечами. Объемистый рюкзак висел на левом боку, на нравом — противогаз: толстяку пришлось раздвинуть руки и держать локти на весу.
— Они открывают, когда хотят.
Двор казармы был заполнен мужчинами средних лет, у них был скучающий вид. Многие, уставя глаза в землю, прогуливались в одиночку. На одних была военная куртка, на других — брюки цвета хаки, третьи остались в гражданском и в совсем новых сабо, которые хлопали по казарменному асфальту. Высокий рыжий тип, которому повезло получить полную форму, задумчиво расхаживал, засунув руки в карманы военной куртки и лихо сдвинув котелок на ухо. Лейтенант рассредоточил группы и быстро направился к столовой.
— Вы что, не ходили за формой? — спросил маленький толстяк. Он подтягивал ремни рюкзака, чтобы забросить его за спину.
— У них больше ничего нет. Толстяк плюнул себе под ноги.
— А мне вот что выдали. Я в этом задыхаюсь на солнце, хоть подыхай. Какая неразбериха!
Жорж показал на офицера:
— Ему нужно отдавать тесть?
— А каким образом? Не могу же я снимать перед ним шляпу.
Офицер прошел мимо, не посмотрев на них. Жорж проследил взглядом за его худой спиной и почувствовал себя удрученным. Было жарко, стекла военных строений были покрашены в голубой цвет; за белыми стенами простирались белые дороги, вдалеке зеленели под солнцем аэродромы; стены казармы прорезали в середине лужайки маленькую гладкую и пыльную площадь, где усталые мужчины ходили взад-вперед, как по улицам города. Это был час, когда его жена открывала жалюзи; солнце вплывало в столовую; оно было повсюду: в домах, в казармах, в деревнях. Он сказал себе: «Всегда одно и то же». Но он не слишком хорошо знал, что одно и то же. Он подумал о войне и понял, что не боится смерти. Вдалеке раздался гудок поезда — словно кто-то ему улыбнулся.
— Послушайте, — сказал он.
— А?
— Поезд.
Маленький толстяк, не понимая, посмотрел на него, затем вынул из кармана платок и стал утирать лоб. Поезд загудел еще раз. Он уходил, полный штатских, красивых женщин, детей; вдоль окон скользили безмятежные поля. Поезд засвистел и замедлил ход.
— Сейчас остановимся, — сказал Шарль. Заскрипели оси, и поезд остановился; движение вытекло из Шарля, он остался сухим и пустым, словно из него вытекла вся кровь, это была репетиция смерти.
— Не люблю, когда поезда останавливаются, — сказал он.
Жорж думал о пассажирских поездах, которые спускаются к югу, к морю, к белым виллам на побережье; Шарль ощущал зеленую траву, растущую под полом между рельсами, он чувствовал ее сквозь листы железа, он видел в светящемся прямоугольнике, выделявшемся на фоне перегородки, бесконечные зеленые поля, поезд был окружен лугами, как пароход льдом, трава поднимется по колесам, пройдет между разошедшимися досками, поле местами пересекало неподвижный поезд. Поезд, попавшийся в ловушку, жалобно свистел; отдаленный свист разносился так поэтично; поезд шел очень медленно, голова соседа Мориса тряслась в бежевом воротнике, это был тучный человек, от которого пахло чесноком, с самого отъезда он пел «Интернационал» и выпил два литра вина. В конце концов он, бормоча, свалился на плечо Мориса. Морису было жарко, но он не решался пошевелиться, сердце подступало к горлу из-за этого пекла, белого вина и белого солнца, слепившего его сквозь пыльные стекла, он думал: «Приехать бы уж что-ли…» У него чесались глаза, он таращил и напрягал их, затем он прикрыл глаза и услышал, как кровь шумит в ушах и солнце проникает сквозь веки; он чувствовал, как подступает белый, потный, ослепляющий сон, волосы товарища щекотали ему шею и подбородок, какой безнадежный день. Толстяк вынул из бумажника фотографию.
— А вот моя жена, — похвастался он.
Это была женщина без возраста, как обычно бывает на фотографиях, о ней нечего было сказать.
— Она в теле, — заметил Жорж.
— Уплетает за четверых, — пояснил сосед.
Они сидели друг против друга в нерешительности. Жорж не испытывал особой симпатии к этому толстому, красномордому типу, говорившему с сильной одышкой, но ему захотелось показать ему фотографию своей дочери.
— Ты женат? — Да.
— Дети есть?
Жорж, не отвечая, посмотрел на него, немного посмеиваясь. Потом быстро сунул руку в карман, вынул бумажник, взял из него фотографию и, опустив глаза, протянул ее толстяку.
— Это моя дочь.
— У вас хорошие ботинки, — сказал тип, беря фотографию. — Они вам еще пригодятся.
— У меня мозоли, — смиренно признался Жорж. — По-вашему, они их мне оставят?
— Скорее всего. Может, у них нет обуви на всех.
Он еще с минуту смотрел на ботинки Жоржа, потом с сожалением отвернулся и бросил взгляд на фото. Жорж почувствовал, что краснеет.
— Какой красивый ребенок! — воскликнул толстяк. — Сколько она весит?
— Не знаю, — признался Жорж.
Он оцепенело смотрел на толстяка, устремившего бесцветный взгляд поверх фотографии. Потом сказал:
— Когда вернусь, она меня не узнает.
— Наверняка, — согласился человек, — если вообще…
— Да, если вообще… — повторил Жорж.
— Так как? — спросил Сарро. — Так мне идти?
Он вертел между пальцев листок. Даладье перочинным ножичком обстругал спичку и сунул ее меж зубов; обмякнув на стуле, он молчал.
— Так мне идти? — повторил Сарро.
— Это война, — тихо сказал Бонне. — И война проигранная.