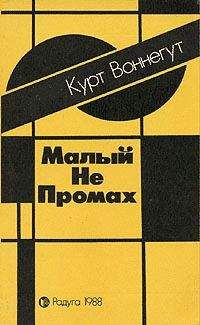Паул Гласер - Танцующая в Аушвице
С момента нашего отъезда из Гамбурга я, кажется, впервые решаюсь дать волю своей усталости. До этого я попросту игнорировала ее. Устала или не устала, но ты должна двигаться вперед. Пусть тебя мучают голод или жажда, но ты всегда должна быть начеку. Теперь наконец я могу признать, что устала так, как не уставала никогда в жизни. В глубине кузова я лежу под грудой одеял рядом с Мартой и другими заключенными. Мы мало разговариваем. Я постоянно дремлю. Я так измотана усталостью и недоеданием, что меня уже совсем не интересует происходящее. Голоса, звучащие вокруг, я слышу, но не обращаю на них внимания. Я различаю лишь проклятия шведского водителя, которыми он разражается всякий раз, как что-нибудь случается в дороге. Кому он адресует эти проклятия, я не знаю, но то, что он ругается, это я знаю наверняка. После всех застенков, в которых мне довелось побывать, его сквернословие лишь убаюкивает меня и звучит почти как музыка. А то, что нашу засевшую в грязи машину вытаскивает на тросе другой грузовик из колонны, проходит мимо моего сознания.
Иногда нам приходится выскакивать из грузовика, когда над колонной проносятся самолеты и расстреливают весь свой огневой запас. Это чаще всего истребители союзников, английские “спитфайры”. Они как будто не видят, что брезент кузовов — как знак нейтралитета — выкрашен в белый цвет и на каждом грузовике нарисован красный крест. Вероятно, все еще случаются недоразумения. Я думаю так, поскольку регулярно, в надежде на то, что их не будут обстреливать с воздуха, в колонны шведских грузовиков затесываются немецкие военные автомобили…
Если на колонну на бреющем полете несется истребитель, мы выскакиваем из грузовика и бросаемся в придорожную канаву. Один раз самолеты появились из-за соседнего леса так неожиданно и бесшумно, и обстрел начался так внезапно, что у нас не осталось времени выпрыгнуть из кузова и скатиться в кювет. Во время этого обстрела двое узников были убиты и три человека ранены, среди них — наш шофер. Несколько часов нам пришлось заниматься ранеными, но затем мы снова трогаемся в путь. Место раненого водителя занимает наш шведский “переводчик”, а сам водитель с рукой на привязи и перебинтованным плечом сидит рядом. Его ругань сошла на нет, теперь он тихий и пришибленный.
Дальше наше путешествие проходит спокойно. Мы то спим, то дремлем в кузове. Иногда останавливаемся — по нужде или перекусить. Вечером, в полной темноте, наша колонна останавливается. Вдали я вижу горящую деревню. Похоже, ее разбомбили совсем недавно, потому что пожар полыхает, вздымая высоко вверх языки пламени, обсыпанные множеством искр. Можно увидеть, как красным отсвечивают облака. Кровавая радуга с переливом цветов — от желтого до темно-красного — резко выделяется на ровном серочерном фоне. Издалека это зрелище напоминает роскошный ярмарочный фейерверк. Он выглядит обманчиво веселым.
После трех дней пути мы добираемся до границы. Там уже стоят в ожидании другие машины шведского Красного Креста. Мы еще не окончательно свободны, понимаю я. Ощущение свободы у меня возникло, когда мы отъехали от центрального вокзала в Гамбурге. Но здесь, на границе, я узнаю, что нас собираются обменять на других заключенных, узников лагерей — на немецких солдат, которые попали в плен при освобождении Норвегии и Дании. Начинаются гвалт, толчея. Обе стороны обмениваются списками заключенных. Вооруженные солдаты окружают наш грузовик. В кузове становится тихо. Мы все замираем. Я истово надеюсь, что теперь обрету наконец подлинную свободу.
Шведский Красный Крест на датской границе
После двух часов ожидания я слышу шум и громкие голоса. Возникли разногласия, это очевидно. Немецкий офицер, под командованием которого происходит обмен пленными, расходится во мнении с комендантом конвоя. Тот не хочет обменивать погибших и мертвых заключенных на живых немецких солдат, как того требует офицер. К спору подключается шведский дипломат. Он выглядит весьма воспитанным человеком, но пребывает в ярости. Сквозь растрескавшийся брезент я вижу его наливающееся кровью лицо. Помимо двух погибших под обстрелом заключенных по дороге от ран и лишений скончались еще двое узников. Немецкий офицер не желает уступать. Дипломат — тем более. Строгим тоном, на лающем немецком, который так хорошо понимают немецкие солдаты, дипломат отстаивает свою точку зрения. Он даже грозит офицеру: его ждут очень неприятные последствия теперь, когда война уже фактически проиграна. Нельзя безнаказанно нарушать договор, спекулируя на умерших. Шведский дипломат безоружен, а у немецкого офицера — пистолет и вооруженные солдаты, готовые ринуться в бой по его команде, но дипломат мужественно продолжает гнуть свою линию. Переговоры заходят в тупик, и начинаются телефонные переговоры между берлинской штаб-квартирой, правительством в Стокгольме и штаб-квартирой шведского Красного Креста. Однако и оттуда поначалу нет ясных указаний, как быть в возникшей ситуации. В эту ночь грузовики, окруженные солдатами, стоят на границе.
На следующее утро обмен начинается. Нам говорят, что по сигналу мы должны покинуть грузовик и через нейтральную полосу перейти на другую сторону границы. И одновременно нам навстречу пойдут немецкие солдаты.
Когда по списку выкрикивают фамилию Криларс, мне разрешают выйти из машины. Шведский водитель помогает мне вылезти из кузова и провожает до места, указанного немецким офицером. Офицер с бледным лицом мрачно и цепко оглядывает меня. Форма сидит на нем безупречно. Даже у проигравших войну, у них во всем soll Ordnung sein[98], понимаю я. Он спрашивает, кто я такая, поскольку никаких документов я предъявить не могу. Вместе с фамилией я называю свой лагерный номер. Солдат сверяет мое имя в списке с номером, вытатуированным у меня на руке. Потом кивает мне: направо. Водитель говорит мне по-английски, куда я должна идти, и показывает на группку людей, стоящих метрах в ста от нас. Они отвезут тебя в Швецию, поясняет он. Затем желает мне good luck[99] и возвращается назад к грузовику за следующим заключенным.
С другой стороны навстречу мне идут три немца в солдатских мундирах. На полпути мы встречаемся. Мы искоса оглядываем друг друга, я не решаюсь рассматривать их в открытую и медленно прохожу мимо. И все же я хорошо вижу их лица и, поравнявшись, гляжу им прямо в глаза. Они явно не страдают от недоедания, но при этом они какие-то серые, серьезные и несколько подавленные. Я одна стою этих троих, приходит мне в голову. И я впиваюсь взглядом в их лица. У одного из них под носом щеточка усов. Другой — пожилой и прихрамывает. Третий еще молод и даже вполне хорош собой, он оглядывается на меня. Он явно радуется своему освобождению, я тоже, и секунду мы улыбаемся друг другу. Кто они такие? Что пережили, какой была их жизнь до нашей встречи? Я хочу это знать, хочу с ними поговорить. Но мы молча проходим мимо друг друга. Через сто метров я наконец-то становлюсь свободной.
По другую сторону границы нас встречают горячим чаем, кофе и каким-то угощеньем. Но много есть нам не дают. При долгом недоедании это может быть смертельно опасно, говорят нам. Мы с Мартой позволяем себе насладиться едой. Потом нам выдают новые одеяла и вместе с другими заключенными выводят на небольшую площадь. Ко мне подходит датский солдат, пожимает мне руку и спрашивает, глядя на мою лагерную робу:
— Можно взять в качестве сувенира нашивку с номером с вашего пальто?
Я? Без номера на одежде? Я не рискую отдать ему нашивку. Прежде в моей жизни нечто подобное каралось смертной казнью. Я отлично помню, что случилось год с лишним назад. Когда на территории лагеря возвышались метровые сугробы, а большая ель с электрическими свечками напоминала нам о Рождестве, четырех моих польских солагерников повесили у нас на глазах, поскольку у них не было номеров на одежде и они показались охранникам fluchtverdacht[100].
Тем временем нас заводят в какое-то здание, где датские чиновники выдают нам новые бумаги. Это нечто вроде временного удостоверения личности. В Германии я везде записывалась под именем Криларс, потому что так мне посоветовал Йорг. Теперь, когда я стала по-настоящему свободной, я диктую чиновникам свое настоящее имя: Гласер. Хватит с меня Лоэнгриновой саги, я наигралась в прятки. С фотографией на документе я становлюсь административно новенькой и чистой.
Роза. Первый день свободы
Два дня спустя мы оказываемся в шведском Мальме. Не считая незначительных препятствий, поездка прошла хорошо. Все возбуждены. Исчезают гнетущий страх, холод, голод, исчезают лающие окрики охранников. По-прежнему остается вонь наших собственных тел, но это никому не мешает. Мы свободны, и у нас нет больше страха. Это самое главное. Брезент, которым был затянут кузов грузовика, поднят наверх.